|
Как известно, науке положено устанавливать общее. Размениваться на мелочи ей ни к чему. На то есть исполнительная власть — всякая там инженерия... А до нее — другая власть, которая что угодно превращается в закон. В том числе научные достижения. Для комплекта — органы правопорядка, где по суду отделяют мух от котлет, а дилетантов от науки.
Однако общее рождается не из мистических видений, и не указом свыше. Тут надо повариться в бульоне житейских историй, много разного попробовать на собственной шкуре, — и общность усматривать не вообще, а именно в этом, реально существующем в качестве исторического опыта. Это называется предметностью науки. Другое дело, что всегда есть повод сжульничать — и вместо собственных потрясений использовать полуфабрикаты, хорошо проваренные останки кого-то другого. Например, устоявшуюся (в узком кругу) терминологию, или (кем-то) принятую таксономию. Это называется научной школой; поскольку адепты не заостряют вопрос об условности подхода и подают школьные догмы как разумеющееся само собой — не очень осведомленная публика часто путает школу с наукой как таковой, тем более когда вступает в игру административный ресурс (должности, звания, премии, и так далее — вплоть до библиотечного классификатора).
Приятное своеобразие науки лингвистики — принципиальная невозможность уничтожить свободу слова. Потому что слова изначально принадлежат всем — и каждый вправе лично проконтролировать добросовестность ученых мужей (или жен, или бесполых деятелей, вроде дрессированных роботов). Как бы ни пытались авторы свода правил, словаря или монографии убедить нас в их авторитетной проницательности, мы сразу замечаем, если словарная статья грешит против живого словоупотребления, а якобы общепринятая таксономия не вяжется с чисто житейским видением сходств и различий. Если ваша теория считает гвоздь строительным крепежом, а для меня это орудие разрушения (загвоздка), — будьте добры исправить теорию, чтобы ваши гвозди не в чем не противоречили моим. Я могу понять, когда вместо настоящего языка изучают узко профессиональный жаргон: в упрощенной модели легче вылавливать существенные связи, строить гипотезы. Но чтобы подавать это как фундаментальный принцип, извольте честно обозначить предполагаемые границы фундаментальности и предупредить собеседника о потенциальных ямах. Свобода истины — обратная сторона свободы заблуждения.
Когда мы формально связываем одно с другим — это наука. Подгонять факт под закон — нечто иное, из области юриспруденции. От научной формальности нет вреда — пока мы сознаем собственную ограниченность и всего лишь следуем (нами же установленным) правилам игры. Но как только решать начинает кто-то за нас (и против нас) — наука кончается, и воцаряется стихия классовых битв. Настоящая наука открывает нам новые возможности — но никоим образом не закрывает старых, или еще не придуманных. Любые барьеры — посягательство на свободу, а без свободы какие же мы разумные существа? Духовное производство — это производство свободы. Остальное — бездуховность.
Нам интересно знакомиться с трудами выдающихся ученых — потому что они, по большей части, прекрасно понимают подвижность любой формы и не собираются становиться никакими инстанциями. Но воспринимать эти труды бывает трудно: творческое начало вязнет в дешевой формальности, когда внешний вид важнее сути. Исторически сложившиеся стандарты презентации противоречат духу научности — но их навязывают новым поколениям далекими от науки (рыночными) методами. Сами по себе эти правила недурны — но от их избытка может иной раз подташнивать. Для сравнения: какая-нибудь Джоконда — вещица великая; однако стоит ли малевать ее поверх всех последующих художеств? — они и сами себе хороши...
Если кому-то почудилось, будто я здесь развлекаюсь рассуждениями вообще, — спешу развеять заблуждение. Разговор по совершенно конкретному поводу — коротенькие замечания на полях толстенной книжищи: Динамические модели в семантике лексики (2004). Представила ее мадам Падучева, из той же (уже международной) когорты, что и академик Апресян, с его механистической (пардон, электронно-вычислительной) трактовкой синонимии, — который выписывал формулы для слов и мечтал о замене человека компьютером. Но у Апресяна дальше семантических кварков воображение не достреливает (а его американский коллега Мельчук остановился на столь же статичной таксономии текстовых ролей); напротив, Падучева самим названием опуса выглядит куда привлекательнее: наконец-то в лингвистических теориях что-то сдвинулось — а где есть движение, возможна и жизнь...
Понятно, что для престарелой мадам это своего рода подведение итогов, сборник статей разных лет, волевым усилием причесанный под монографию. Тем не менее, сам факт наличия творческой воли вызывает уважение — а если кому-то кажется, что гипертрофировать и омертвлять концептуальное единство не всегда хорошо, — это их личные проблемы, на высоту оценки не влияющие.
Взгляд с орбиты: биография безусловно удалась. Тот случай, когда не жалко формальных знаков отличия, зарплат и степеней: ладно, пусть играются, коли так у них положено. Сказано много, и где-то по существу, и есть в этом немалая общественная польза — и маленький пользеночек лично для меня, моральное удовлетворение при виде официального признания принципов, за которые приходилось воевать не один десяток лет: таки и я не совсем дурак... Либо все вместе с ума сходим — не обидно.
Спускаемся чуть ниже — и переключаем зрение в режим мелкоскопа (как у орла). На этом этапе нормального человека (поскольку групповое сумасшествие осталось уровнем выше) начинает серьезно клинить, в мозгах искрит: с одной стороны, достаточно очевидные истины, — но подкрепляются они, мягко выражаясь, с точностью до наоборот. Юриспруденция фактов.
Нет, конечно, всякий волен толковать языковые явления в меру своей испорченности — вплоть до полной мистики. Но когда вольности зашкаливают — измерительный прибор может ненароком упасть и разбиться. А осколки по полу — это непорядок.
Спешу оговориться: ничего личного. Разговор не за кого-то конкретно, а за жизнь. Практически ту же коллекцию дурных примеров обнаруживаем в любой книжке по семантике. Кто-то, возможно, сделал бы вывод: занятия семантикой вредно влияют на способность адекватно воспринимать человеческую речь. Но есть и другая гипотеза — о ней ближе к концу.
Итак, случайно выдранные иллюстрации чего-то не совсем случайного.
Для ясности: речь в книжке не о лексике вообще, а преимущественно о глаголах. Это нормально, ибо в русском языке (с позиций русского языкознания) всякая идея может быть представлена некоторой деятельностью, синтаксическим выражением которой служит именно глагол. Другие языки могут сколько угодно запихивать нашу субъектность в имена или междометия — это мы тоже умеем, но в культурном общении не злоупотребляем.
Так вот, у глагола (как лексической единицы) есть много разных (вы)разительных черт, каждая из которых подобна химической валентности: одни слова к глаголу приклеиваются — другие нет. Грандиозная идея состоит в том, что валентности глагола происходят не только от его внутреннего устройства (как воображали Апресян и Мельчук), а еще и от весьма широкого контекста, от речевого намерения, — которое способно полностью изменить собственно лексическое значение, так что запись теми же буквами вовсе не означает, что имеется в виду одно и то же, и с каждым графическим (или фонологическим) представлением надо разбираться отдельно. Даже в эпоху самообучающихся нейронных сетей и динамический типизации в программировании — совершеннейшая ересь! Любой математический логик вам ткнет в морду первый попавшийся учебник, где открытым текстом сказано:
|
...записав все исходные допущения на языке специальных знаков, похожих на математические, можно заменять рассуждение вычислением. Точно же сформулированные правила таких логических вычислений можно перевести на язык вычислительной машины, которая тогда будет способна автоматически выдавать интересующие нас следствия из введенных в нее исходных допущений.
| |
И напомнит про пять (немецких) букв, обозначающих несовершенство всякой истины и обманчивость любого совершенства.
Совершенно в скобках: кто определяет степень похожести? Арабские буквы далеки от европейской математики — но именно от арабов в Европе алгебраический метод, и наследие Аристотеля сохранили именно они. "Специальные знаки" древних индусов не пахнут никакой латиницей — но одну из первых собственно лингвистических теорий связывают с именем Панини. Я уже не говорю про "вычисления" каких-нибудь китайцев, ацтеков и майя, или допотопных египтян. От Шумера с Вавилонией, как говорят, и латиница произошла... Так что, будем продолжать сегрегацию семантем по принципам кодирования?
Еретические воззрения Падучевой о всеобщей трансмутантности смогли выжить и превратиться в "особое направление российской лингвистики" во многом благодаря виртуозной мимикрии, внешней неотличимости от формалистических построений прочих деятелей московской семантической школы. Именно эту уродскую формальность (а не стоящую за ней идею) я и собираюсь пощипать в последующих абзацах: тонны языковой грязи не просто мешают кристальности перспектив, они завалили науку до такой степени, что не разглядеть ни леса, ни даже деревьев. Допускаю, что речь вовсе не о сознательной маскировке, а об искренней убежденности; но человек далеко не всегда отдает себе отчет в собственной гениальности.
До сползания в критику, не могу не отметить еще одной фундаментальной идеи, которая, к сожалению, пока лишь намечена — и вряд ли может полноценно развиваться в рамках формальной семантики: склонность людей одинаково обозначать очень разные явления их общественного бытия — вовсе не произвол; за этим стоят какие-то принципы организации человеческой деятельности, которые подталкивают язык к одной из возможностей, отвергая прочие, на вид столь же привлекательные решения. Даже математик индексирует какие-нибудь абстракции латинскими или греческими буквами не наобум, а соответственно их (абстракций) предполагаемой природе. Что уж говорить о конкретном обывателе! — у него самая нахальная блажь становится выражением исторической необходимости. Существование семантически различных вариантов одной и той же лексемы (в частности, глагола) объясняется глубинным родством соответствующих деятельностей — что в буржуазной науке принимает извращенную форму правил трансформации. Такие правила Падучева пытается собирать и классифицировать, всецело оставаясь в рамках формалистической эмпирии (оно и понятно: место работы — ВИНИТИ). Поэтому ссылки на динамику не следует понимать слишком этимологически, как указание действующих сил (вроде физических взаимодействий); скорее, речь о наблюдаемом спектре возможностей, направленности и особенностях протекания "химических" реакций. Известно, что лишь выход за рамки собственно химических соображений, с привлечением знаний о физике атомов и молекул, открыл химикам глаза на логику их ремесла и привел к взрывному развитию химических технологий; точно так же, лингвистическая семантика обретет второе дыхание после увязки речи со строением деятельности вообще, включая все уровни психологии наряду с общекультурными влияниями.
А теперь — пожалуйте в зоосад.
С самого начала поражает уверенность и авторитетность тона, способность подавать чисто фонарные построения за достижения строгой науки:
|
Имеются четыре параметра, по которым значения глагола — его лексемы — могут отличаться друг от друга: 1) таксономическая категория; 2) тематический класс глагола; 3) диатеза; 4) семантическая характеристика участников обозначаемой глаголом ситуации
| |
А если мне захочется придумать (лично для себя) еще какой-нибудь параметр? Ну, скажем, продуктивность, или уровень метафоричности. Кто мне запретит? Публикации подшивать мне без нужды, в мэтры ломиться незачем, — да я, может быть, своими догадками и не поделюсь ни с кем! От этого их научность ничуть не пострадает — а свой личный словарь каждый вправе строить по собственным принципам. В науке всякий выбор надо обосновывать. Без лишних формальностей: просто пояснить, из каких соображений именно так. Это элементарная порядочность, уважение к тем, кто ищет другой истины другими путями. Если особых аргументов не водится — хотя бы указать тот фонарь, от которого все пошло. Дескать, мы тут с коллегами посовещались — и решили (почему бы и нет?) поиграть в эту игру: наугад закинуть удочку — и посмотреть, что клюнет.
Я уже не говорю о том, что глагол — это категория грамматическая, и он вовсе не обязан соотноситься с какой-нибудь (и тем более единственной) лексемой; и наоборот, та же лексема запросто превращается в живой (выразительной) речи в самые разные грамматические части. Некоторые языки даже делают это нормативным образом, придумывают специальные технологии. И тамошние словарные статьи распадаются на несколько секций, по характеру грамматикализации. Но и в русской литературе примеров хоть отбавляй (приводить не буду — пусть остается в качестве домашнего упражнения).
Каждый параметр из привилегированной четверки столь же авторитарным образом связан с набором возможных значений, о происхождении которых ничего не сообщается — дабы усилить впечатление априорной незыблемости. Например, двенадцать вариантов "Т-категории" для глаголов действия: обычное, с акцентом не результате, моментальное, с количественным результатом, и так далее. С тем же успехом можно было бы ограничиться меньшим числом, или добавить десяток других. Никакой большой идеи за этим не стоит. Тем более, что по практике все они плотно перемешиваются.
Тематический класс — вообще мрак. Это, видите ли, "формальный аналог семантического поля". И расходятся по классам бытийные глаголы, восприятие, чувства, каузации, принятие положения — и много чего еще. А в каждом классе — еще и сословное деление ("строевые компоненты"). Простор для фантазии — совершенно неограниченный. Закономерный вопрос: может быть, тогда и не нужна такая таксономия? Никакой науки за ней не стоит, исключительно дань лексикографической традиции (составление тематических словарей), легализация ходячих предрассудков. А если у меня другое видение мира? Перечисление всех возможных "тем" очевидно соотносится с полным перечнем человеческих деятельностей; объективно, в каждой конкретной культуре (у каждого народа и каждую историческую эпоху), они выстраиваются в какие-то иерархические структуры — и все вместе это (в духе исторического материализма) обозначается категорией способ производства. Исследовать строение способа производства средствами науки вполне возможно, и нужно; но это никак не составление потолочных перечней, а выделение объективно представленных в культуре компонент и описание их исторической динамики. Ничего такого в лингвистической семантике (а тем более в лексикографии) отродясь не было — и пока не предвидится.
Про диатезу речь впереди — а пока перепрыгнем к лингвистическому неофрейдизму, представленному в системе "Лексикограф" разделом "актантная структура" (позже Падучева замечает, что неплохо было бы добавить и "сирконстантную"). В схематике московской школы широко используется метафорический язык: толкование слова выглядит бытовой зарисовкой, маленькой сценкой, сталкивающей формальных "участников" со странными именами: Агенс, Пациенс, Начало, Фаза, Адресат, Цель, Причина, Конечная точка и др. По расположению на сцене эти персонажи приобретают какие-то из возможных "рангов" ("объект", "субъект", "периферия", "за кадром" etc.). Бросается в глаза поразительное сходство с юнгианскими архетипами: те же претензии на всеобщность, и тот же фактический произвол. Когда граждане затевают межсобойчик по поводу тонкостей толкования — со стороны это вроде конкурса сказочников, или состязания пастушков в эллинистической поэзии.
На самом деле, за анекдотической формой стоит сермяжная правда: чтобы говорить о семантике, надо не только разговаривать, но и что-то делать. Смысл слова не в нем самом, не в его форме (графика и звук), не в грамматике (чести речи и морфология), и не в возможных частных реализациях (собственно, значение), — смысл говорит о том, зачем мы слово вставили в текст; то есть, что мы такое делаем, о чем говорить надо именно так. Вот это отношение текста (в частности, слова) к деятельному контексту (включая уровни подтекста и зоны ближайшего развития) и призвана изучать лингвистическая (в отличие от всех прочих) семантика.
Пока лингвист далек от насущных потребностей эпохи, пока ему не приходится работать не только языком, но и руками, — у него нет той самой основы, из которой только и может вырасти семантическая теория. Лингвистика варится в себе — и выводит на сцену разные способы этой интроспекции, для наглядности навешивая на них имена — и все собственные... Куртуазная литература была необходимым этапом в становлении европейской литературности как таковой, и мы с удовольствием перечитываем фрагменты старых романов; однако (как бы ни старались нас убедить в обратном проповедники филологического идеализма, вроде Бахтина) писатели Нового времени (классицисты, романтики, реалисты и сюрреалисты...) безмерно обогатили европейское искусство, развернув его лицом к живому человеку, во всем его несовершенстве — и во всей его бесконечности. Точно так же, от полезных на первых порах метафор пора бы переходить к формированию собственно научных понятий, говорящих не о мифологических персонажах (архетипах, стереотипах или — как сейчас модно выражаться — "мемах"), а о реальных участниках реальной деятельности, к производительным силам и производственным отношениям (включая, разумеется, и духовное производство).
Формальное применение формалистических конструктов к российской лексике порождает форменное безобразие, изнасилование интерпретаций. Например, некоторые глаголы якобы подвержены влиянию речевой ситуации и в каких-то контекстах не допускают пассивных конструкций:
Он обнаружил признаки жизни.
*Им обнаружены признаки жизни.
| |
В отличие от:
Химическое исследование обнаружило признаки яда.
Химическим исследованием обнаружены признаки яда.
| |
Тут полная чушь, путаница и неразбериха! Вопрос именно о семантике, то есть, о соотнесении высказывания (а не просто текста) с его смыслом, с мотивом представленной высказыванием деятельности. Фраза: Он обнаружил признаки жизни — может быть понята двояко: либо он где-то их обнаружил (и тогда пассив вполне возможен) — либо кто-другой их обнаружил в нем, и тогда пассив надо строить совершенно иначе: В нем обнаружены признаки жизни. Точно так же про химическое исследование: если речь идет о его (исследования) ядовитости (в каком угодно смысле) — возникает "невозможный" (точнее: иносказательный) пассив... Ошибка совершенно непростительная для знатока мельчуковской (или апресяновской) схематики, с ее (независимым от синтаксиса) разделением Агенса и Пациенса.
Аналогично по-французски: sortir un couteau — вовсе не то же самое, что sortir un moment. Даже грамматика разная.
Вместо поверхностной эмпирии полезно бы задуматься о фундаментальной семантической противоположности (не слов, а) семантем быть и иметь (по-испански этимология: держать). Одно дело быть правым — другое иметь право. Последнее еще и в особом идиоматическим смысле: как демонстративное пренебрежение всяческими правами. Из той же серии: я имею вам сказать. Поставьте в середине тире — и смысл коренным образом изменится.
В русском языке "обнаруживать признаки жизни" может бытовать не конструктивно, не фразой, а в качестве нерасчленимой конструкции, идиомы для простого: жив. Это одна лексема, а не комбинация лексем. Прилагательное, а не глагол. И тогда все очевидно: строить пассив от прилагательного — не по-нашему (хотя в каких-то языках и это прокатило бы).
Тут выход на обширнейший пласт семантики синтаксиса: различие предикативных и эргативных (а также, возможно, и виртуальных, и процессуальных, и еще каких-нибудь) сказуемых. Плюс возможные превращения одного в другое. Это мощный инструмент для изучения национального менталитета — и ключ к реконструкции внутреннего мира наших далеких предков.
Мораль: слова ничего не значат сами по себе, как словарные гнезда; более того, они бессмысленны даже как элементы текста! Чтобы говорить о семантике, надо иметь (или предположить) речевой контекст, нарисовать живую картинку — и тогда мертвые схемы оживут, и можно отличить идею от ее внешней формы — а значит, обсуждать вопрос о логике выбора именно этого оформления. Другими словами: конструкции языка (как общественного явления) не соотносятся напрямую со строением текста, и одинаковую (на каком-то уровне) семантику можно представить разными речевыми оборотами. Это ближе духу ленинградской школы — а для москвичей (занятых преимущественно исследованием текстов) внутреннее единство высказывания представляется возможностью внешней трансформации по невесть откуда взявшимся правилам.
Семантически, есть две очень разные схемы: некто (или нечто) делает что-либо в отношении чего-то (или кого-то) другого — и некто проявляет себя (является) некоторым образом. Во втором варианте — возвратная конструкция, которая даже по грамматике пассивна, и тогда усилить эту страдательность можно лишь какими-то дополнительными средствами; подлинное подлежащее просто опущено (по-московски: участник Наблюдатель остается "за кадром") — но оно подразумевается по контексту (если этот контекст реально восстановить).
Конечно, живой язык способен и на большее: он может запросто образовать пассив от пассива — или превратить пассив в актив (или наоборот). Вот где развернуть бы собственно динамическую семантику!
Но продолжим скучные чтения:
...от наблюдать образуется два отглагольных имени — наблюдение 1, процесс, и наблюдение 2, результат, а от заметить — только замечание
...существительное звон, образованное от звонить, процесс, обозначает не процесс, а звук.
| |
Сразу упираемся в пышнейший букет формалистических недоразумений. Всем ясно, что замечание как процесс (ср. арабские масдары) никак не противоречит нормам русского языка и может свободно употребляться носителями, особенно в письменной речи (включая научную и художественную), — наряду с отрицанием: незамечание (которое отсутствует в официальных словарях — ну, и кого это волнует?). Процессуальный дериват запросто возникает и во множественном числе: спонтанность замечаний, намеренность незамечаний. Далее, в "результативном" словообразовании — слово расщепляется на разные лексемы, "омонимы": либо это наличный факт (кто-то что-то заметил), — либо дополнительная информация (в тему или около), — либо публичная негативная оценка. Разумеется, возможны и другие варианты.
По поводу процесса звонить — сплошная нетривиальность. Даже глагол пестрит коннотациями (извлекать звуки, издавать звуки, телефонировать, подавать сигнал, бессовестно врать, трепаться, широко разглашать...) — вокруг хорошо ощутимого семантического ядра. Вероятно, есть языки, где такие вещи словарно или грамматически разведены; а по-русски сложилось так — и никуда не денешься! Но, пардон, лихо производить от глагола звонкое существительное — это уже явный перебор... По всей логике — как раз наоборот: первичен (звукоподражательный) звон — а глагол образован от него (после того, как у первобытных говорунов появились для этого формальные средства). Для особой надобности, мы можем формировать вторичные (действительно отглагольные) имена: звонарь, звонилка, звонящий, названивание — а слово звать нагло трактовать как производное действие ("звон по поводу"), и дело тут не в мифических индоевропейских предках, а во вполне реальной, синкретической семантике, вытекающей из особенностей способа производства.
Еще о вольностях интерпретации:
|
У глаголов дотронуться и коснуться парный НСВ имеет разные категории: дотрагивается — действие, а касается — состояние.
| |
Почему, собственно? Начальство приказало? Касаться чего-то можно и единожды:
|
он как бы случайно касается ее руки — и тут же отпрянет, испугавшись собственной дерзости
| |
А дотрагиваться не возбраняется и статически:
|
дотронулся бы — да как-то не дотрагивается...
| |
Точно так же, выступающий подбородок ("состояние") вполне способен выступить сценически (например, если речь идет о порядке восприятия). Спрашивается: что же это за семантическая наука, которая зиждется на авторских симпатиях, случайных интерпретациях, далеких от существенностей языковой практики?
Идем дальше — и далеко ходить не приходится:
|
Каждый компонент является значением какого-то признака, например: экспозиция, способ (деятельности), каузация, результат. Еще один признак — цель. Так, два значения глагола укрыться — укрыться чем? и укрыться куда? — различаются компонентом "цель"...
| |
Произвол на произволе. Во-первых, (как у Мельчука) полный хаос с выделением признаков. Написать можно что угодно. А почему именно так, а не как-то иначе? Чьим волевым решением? Пока нет принципа развертывания иерархии признаков — они совершенно бессмысленны. Далее, значений у слова укрыться куда больше двух — и сама же авторша указывает третье, не имеющее к целям никакого отношения. Но не надо быть большим лингвистом, чтобы заметить кучу других вариантов: укрыться как? от чего? почему? для чего? — наконец, укрыться в каком смысле? И так с любым словом. всякое можно поместить в любой контекст — и задавать осмысленные в этом контексте вопросы. А нет контекста — и спрашивать не о чем.
Можно предварительно принять гипотезу о семантических ядрах — но не только (и не главным образом) лексем, но и фразовых схем, типовых оборотов устной или письменной речи. Однако с какого потолка взяты "лексикографические формулы" в данном случае:
|
...у глагола резать семантическое ядро — 'давить твердым предметом, имеющим острый край'.
| |
А если мы желаем резать правду-матку? Язык твердым предметом не назовешь, а острота у него в очень переносном смысле... Если же врезать в морду — тут лучше тупым предметом. Подрезать кого-то — допускается вообще непредметным образом, а образом действия. Урезают тоже не ножницами, а указами. И так далее, и конца нет разнообразию.
В русском языке есть семантема {резать} — не обязательно выразимая с привлечением одноименного слова. Она предполагает (среди прочего, не всегда словесно обозначенного) нарушение целостности, связанное с проникновением чего-то постороннего внутрь. Ясно, что проникновение внутрь не всегда ведет к нарушению целостности: например, семантема {колоть} (в смысле точечного проникновения) больше говорит о болезненном, но не разрушающем воздействии. С другой стороны, семантема {крушить} (по-английски: smash) — имеет в виду уничтожение внешним образом, неизбирательным воздействием. В лингвистической литературе было бы полезно разделять лексические конструкции (скажем, набранные особым стилем), их звучание (например, в квадратных скобках), и семантику (как здесь — в фигурных скобках). Чтобы не было соблазна приписывать смысл изолированным словесам. С другой стороны, особое обозначение семантических ядер — подчеркивает их независимость от конкретного языка, делает общеязыковым (или даже общекультурным) явлением. Одно и то же ядро по-разному выражает себя в лексике разных языков — но перевод таки возможен! Для чего были бы полезны (иерархически упорядоченные) собрания семантем, с примерами реализации.
Базы данных и словари нужны. Иначе просто невозможно судить о их несовершенстве. Падучева извиняется за схематизм и говорит, что ее толкования не претендуют на полноту. Но никакие вообще толкования претендовать на полноту не могут — поскольку они возможны лишь в данном контексте, в ограниченной области бытия, и потому заведомо неполны. Поэтому само понятие полноты к работе лексикографа неприменимо, неуместно. Тут надо искать совершенно другие критерии оценки — а лучше вообще ничего не оценивать, а просто делиться (всегда промежуточными) итогами творческих исканий.
Проблема профессионального лексикографа в привычке все видеть сквозь лексические очки. До каких-то пор это безобидно. Однако семантика по самой сути своей есть выход за грань лексического оформления и синтаксиса — речевой исток и того, и другого. Люди лишь вторичным образом разговаривают — в первую очередь они действуют, как на окружающий мир, так и друг на друга. И только потом выводят из этих действий идею внутреннего мира — и ее вещное представление, язык. Но Падучева сводит восприятие мира к восприятию речи:
|
Чаще всего окружающие узнают о психическом состоянии человека по тому, что он сказал.
| |
Точно так же воздействие на мир — только словом:
|
Так, оскорблять — это прежде всего говорить оскорбительные вещи.
| |
На самом же деле — о "психическом" судят по публичному поведению (включая речевое, и не только в коммуникативном аспекте), а слова становятся оскорбительными только в контексте оскорбляющей деятельности (яркий пример — эротические игры, когда самые грязные имена могут звучать нежной лаской). Вывернутость падучевской теории наизнанку получает сугубо формальное выражение:
|
Структура толкования глагола речи в системе "Лексикограф" отлична от той, которая принята в Wierzbicka 1987, где мотивировка речевого действия отнесена в конец толкования. Дело в том, что мотивировка хронологически предшествует действию, так что ее законное место — начальное.
| |
Но вспомним А. Н. Леонтьева, классика советской психологии: мотивировки далеко не всегда соотносимы с реальными мотивами деятельности — их придумывают задним числом, в ходе особой деятельности (которая так и называется: мотивировка); это особый уровень рефлексии. Мотив деятельности — вообще не имеет отношения к времени: это ее движущая сила, выражение общественной необходимости. С другой стороны, для совершенно статичной словарной статьи совершенно без разницы, в каком именно порядке мы будем перечислять признаки; выстраивать их в определенном порядке имеет смысл лишь в контексте анализа динамики речепорождения или восприятия речи.
Тут мы естественно переходим к одному из фундаментальнейших разделов падучевской лингвистики — теории времени. Нам предлагают красивую картинку: три разных модальности (способа говорить о) времени. Модель текущего времени — "процесс, выходящий за пределы трехмерного пространства, т. е. метафизический". Что-то непонятное течет неизвестно где и зачем. Модель скалярного времени вводит абстрактную шкалу, "по которой, трансцендентным образом, движется время". Это "бесконечный календарь-часы" — и дальше примазываемся к Эйнштейну, с его кривой геометрией. Наконец, модель встречного движения представляет время как поток наваливающихся на замученного обывателя событий, которыми его, якобы, бомбардирует будущее, — только увертываться успевай.
Почему, собственно, из бесконечности возможных моделей выбраны именно эти — сказать сложно; предположительно — потому что они где-то уже обсуждались в литературе, относительно знакомы читателю — и успели (явочным порядком) приобрести статус весьма правдоподобных. На вскидку можно предложить десяток других. Например, время воспринимается как наличие опоры (прошлое), стоя на которой мы дотягиваемся до чего-то вверху (будущее), уцепляемся за него и подтягиваемся на новый уровень. Модель сразу объясняет разного рода ретроградное движение (не дотянулся и упал) и продолжительность настоящего (причем у каждого в меру его роста). Тогда как в моделях Падучевой "время 2" (отрезок времени) возникает в лучшем случае "метонимически".
Абстрактные игры — занятие увлекательное, и хороший отдых (потому что не обязывает ни к чему). Но тут нам указывают на странности древнерусского языка, который, будто бы, со временем не в ладах. Падучева приводит табличку, согласно которой такие слова как передний и задний могут обозначать то прошлое, то будущее. Утверждается, что эта сортировка объясняет трудные места древних текстов. Два таких места чуть раньше приводятся со всей научной добросовестностью. Так, в Слове о полку Игореве читаем:
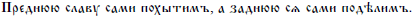
Плюс фрагмент Ипатьевской летописи:

Чтобы показать, каким образом три падуч(евск)ие модели способствуют пониманию этих кусков, добросовестности уже не хватило: дескать, дали вам конструкт — так чего еще? — выводы сами делайте...
Хорошо. Сделаем. Вывод первый: перед и зад в русском языке вообще не про время. Поэтому всю мадамскую науку чистой палочкой в помойное ведро. Речь идет о позициях чего-то внешнего (вещей, дел, событий) по отношению в говорящему (или тому, о чем говорится). Это типично дейктическая модальность, и потому слова ссылаются на разные вещи в разных контекстах. То есть, передний = пред нами, задний = за тем. Будет речь о времени, или еще о чем-нибудь — дело десятое. Например, в приведенном у Падучевой фрагменте новгородской берестяной грамоты слово зад совершенно логично означает последствия рискованного дела (безотносительно к времени). Оказывается, что перевести на (литературный) русский язык вышеозначенные "трудности" не представляет никакого труда:
|
Сначала добудем себе славу — а потом уже будем делить ее.
Историку подобает писать обо всех и обо всем, что было, а иногда и о том, что предстоит, и что от того ожидается.
| |
Просто надо слушать, что люди говорят, а не приписывать им свое. Но по логике авторши:
|
Примеры показывают, с каким трудом язык справляется с идеей времени.
| |
С языком-то все в порядке. Проблемы у тех, кто пытается навязать ему то, чего в нем нет. Или искорежить само собой очевидное в угоде ничем не обоснованной формальности. Вот, предлагают посмотреть на два примера:
(1) он строит дом, печет пирог, вышивает розочку и т. д.
(2) заплетать косу; зажигать огонь;
косить сено; рубить дрова;
сушить изюм; завязывать узел.
| |
Для русского человека — дело обыкновенное: и в том, и в другом случае мы говорим о цели некоего действия и о том, что мы для ее достижения делаем. Синтаксически это оформлено как прямое дополнение переходного глагола — однако семантика прямо копирует универсальную схеме деятельности:
объект → субъект → продукт
что в данном случае превращается в триаду речевого контекста:
ситуация → поведение → намерение
Мы-то знаем, что про одно и то же можно говорить разными словами и конструкциями. Конкретно, здесь основное внимание на продукте, поверхностно указан способ производства, — а ситуация (обстановка, наличные ресурсы и т. д.) предполагается по умолчанию; для ее уточнения необходимо расширить текст, что иногда может привести к переосмыслению фразы:
Он строит дом из спичек.
Она вышивает розочку нежными губками.
| |
Разумеется, акценты всегда возможно "диатетически сдвинуть". И слова станут означать не совсем то, что раньше. Но примеры (1) и (2) для нас ничем не различаются. Тогда как Падучева прямо-таки впадает в экстаз:
|
В своем буквальном значении сочетания из (2) просто аномальны: огонь нельзя зажечь — он уже горит; заплетают не косу, а волосы; и уж косят, конечно, не сено, а траву. Между тем такие сочетания с успехом используются в речи, и глагол НСВ имеет в них актуальное значение. Как же преодолевается их аномальность?
| |
Да нет никакой аномальности — и преодолевать нечего! Потому синтаксические конструкции в данном случае семантически нейтральны, а семантическая схема {}{строительство}{дом} ровно ничем не отличается от схемы {}{разжигание}{огонь}. Обстоятельства по умолчанию я на всякий случай явно представил пустой скобочной группой. Если уж наводить строгость, следовало бы указать, что строим мы не дом — а выстраиваем в нужном порядке строительные материалы; и печем не пирог, а заготовку для пирога. Таким глупостями пусть занимаются математики. А про живой язык надо живо. Предложение "рубкой изготавливать" вместо простого "рубить" — пошлый трюизм, тавтология, ничего к пониманию дела не добавляющая. Не верю я, что
|
Осмысление сочетаний типа строить дом, печь пирог достигается за счет расширения круга потенциальных референтов именной группы. Мы способны воспринимать недостроенный дом как дом; неиспеченный пирог — уже как пирог и т. д.
| |
Вздор! Мы (поскольку мы действуем сознательно и этим отличаемся от животных) всегда видим перед собой продукт — и говорим прежде всего о нем; как этот продукт представлен лексико-грамматически — совершенно неважно, а важно, что все остальное в предложении подчинено этому главному (не взирая на синтаксис, акцентуацию и тому подобное). Прежде всего мы сообщаем собеседнику что мы делаем — и уже потом объясняем как. Поэтому природный объект для нас — не сам по себе, а как условие деятельности: нескошенная трава — это уже сено; (даже не вызревший) виноград на лозе — уже вино или изюм.
Заметим, что относится это не только к "глаголам создания материального объекта" — но к любым глаголам вообще. Например, в предложении: студент лежит на пляже — точно так же, как и для "глаголов создания",
|
Несов. вид представляет ситуацию статически в некий "средний" момент ее развития.
| |
В каком смысле он там лежит (накладывает загар, в качестве трупа, или в плане массового залегания) — без контекста не поймешь. Но это мы уточним при необходимости. По жизни, язык предельно эффективен, он стремится к минимальности (даже если это минимально необходимое краснобайство). Мы же не в вакууме разговариваем, а в рамках совместной деятельности.
Закладываться под несовершенный вид — лично я бы не стал. Тексты бывают разные, и где-то совершенное становится несовершенным, и наоборот. Речь, опять же, не про время, а про деятельность. Непонятное Падучевой "она вышивает розу" достаточно переписать как
|
она вышивает розу каждое утро по полчаса
| |
чтобы несовершенный вид начисто утратил свою "среднемоментность" и приобрел все черты завершенного действия; деятельность при этом переберется на более высокий уровень, захватывая другой контекст. Это типичный "сдвиг мотива на цель" (А. Н. Леонтьев). Можно свернуть вообще в точку, в операцию:
|
следуя рисунку, она вышивает розу через каждые две лиственные виньетки
| |
Но можно двинуться и в другую сторону: превратить "вышивание" из сиюминутного занятия в обыкновение, внутреннюю потребность и душевное состояние. Как в известной песне:
μα εγώ δεν απαντώ
την καρδιά μου τη σφραγίζω
και την πίκρα μου κεντώ
| |
Все эти "дериваты" — частный случай обращения иерархий, без которого не обходится никакая иерархичность. И прежде всего, иерархичность деятельности. Как известно, идея времени возникает в леонтьевской схеме (операция → действие → деятельность) только на уровне действия. В том числе известно Падучевой:
|
Речевые акты — это именно речевые действия, а не деятельности: действия имеют цель и заканчиваются, когда цель достигнута.
| |
Деятельность — воплощение бесконечности (того, что не имеет ни начала, ни конца). Здесь, а вовсе не в каких-то "метафизических" процессах, исток представлений о течении времени — тогда как развертывание деятельности в иерархию действий задает набор временных шкал (связанных с продолжительностью действий). Наконец, операция — вмещается в одно мгновение; на уровне операции мы опять-таки не знаем ничего о начале и конце, и остается лишь поток мгновений, по видимости совершенно бессмысленный (связь с деятельностью только через действие), но подчиненный "трансцендентной" логике (которая в психологии известна как установка, косвенная связь операций с деятельностью). Вот вам и третья падучевская модель без намордника.
К чему это я? Да все к тому же: невозможно оставаться научным в рамках науки — только выход в большой мир позволяет превратить хаос абстракций в сколько-нибудь приличную целостность. Составление словарей — не та деятельность, где возможны семантические теории; самое большее, словари готовят эмпирический материал. Попытки интерпретировать его на основании потолочных классификаций неизменно приводят к тому, что палец пробивает потолок и тычет в небо. Так не проще ли начать с чего-то небесного и не громоздить на конфузе конфуз? Вроде этого (про слова типа построен или открыт):
|
Удивительная семантическая особенность регулярно образованного причастия на н/т состоит в том, что оно имеет два значения — событийное и статальное, — которые соотнесены как бы метонимически. В самом деле, на денотативном уровне ситуация, описываемая пассивно-причастным оборотом, при обоих значениях одна и та же. В ней два компонента — событие (в частности, действие), которое приводит к возникновению нового состояния (1-й компонент), и само это состояние (2-й компонент).
| |
Со школьной скамьи нам известно, что (дее)причастия как грамматическая категория как раз и характеризуются совмещением свойств глагола и имени — для этого они языку и нужны. Касается это вообще всех причастий, а не только тех, который как-то кончаются. Разумеется, если есть иерархия, можно говорить о ее обращениях; если трактовать их как сдвиг центра внимания — получится метонимия. Грамматические показатели причастие заимствует как у глагола, так и у имени — и в зависимости от этого возникает обширный арсенал выразительных двузначностей, без которых нам было бы совсем скучно жить. Заметим, что эта двойственность носит совершенно универсальный характер и встречается почти во всех языках. Следовательно, опирается на неязыковые механизмы — закономерное взаимодействие смыслов. На данный момент, это чуть ли не единственный пример собственно семантического явления, заслуживающего пристальнейшего изучения с перспективой открытия столь же мощных семантик на других уровнях языка.
Русскоязычному ясно, что несовершенный вид столь же продуктивен: строивший(ся), открывавший(ся) — это и процесс, и состояние, а тоже их всевозможные сочетания (и взаимные превращения). Причастие настоящего времени ничем не хуже: любим(ый), любящий, — или из русской поэзии:
|
и голос его звенящ, и очи его — пламя
| |
Резкой границы между словообразованием и морфологией никогда не было — и здесь еще один полигон для теоретической семантики: динамика перехода от словоформы к слову, от окказионализма к идиоме. Одна из сторон процесса порождения абстракций: от внешнего движения к понятию. Разные пути — разные лексические формы.
|
Из абстрактности можно вывести такое сочетаемостное свойство глагола, как отсутствие характерного инструмента. Ср. глаголы нарисовать и изобразить; первый — глагол способа, второй — абстрактный; отсюда рисует карандашом, но *изображает карандашом.
| |
Верх произвола. На каком основании? От фонаря. Рисовать можно не только карандашом — но и жестами, и словами, и даже компьютерным кодом. С другой стороны, ничто не мешает нам изобразить что-то жестами (или мимикой), или легкими штрихами (тоже абстракцией); все это применимо и к рисованию, которое может в итоге стать совсем абстрактным (мороз рисует узоры на окне, статистика рисует печальную картину). Но изображать можно и другими "инструментами": например всем телом — или только задним проходом... Получается, что нет никакой семантики у слова самого по себе, а есть разные оттенки смысла (различные жизненные ситуации), которые иногда предполагают инструмент — а в другой раз обходятся без него.
(1) а. Разбойники убили крестьянина.
б. Крестьянин был убит разбойниками.
Трансформационная грамматика 70-х годов игнорировала тот факт, что мена залога связана с изменением смысла; например, замена активной конструкции на пассивную считалась синонимическим преобразованием. Сейчас это упрощение представляется неоправданным: всякий диатетический сдвиг, т. е. изменение синтаксических ролей участников с заданными ролями, влечет вполне ощутимые различия прагматического порядка, которые можно представить как изменение коммуникативного (или синтаксического) ранга участников: предложение (1б) говорит о крестьянине, его тема — крестьянин; а (1а) — о разбойниках.
| |
Мысль здоровая. Изменение формы высказывания как обращение иерархии: на первый план выходит другое. На этом стоит так называемая диатетическая логика (в дополнение к логике классической и логике диалектической; латинская калька: диспозиция; или чисто по-русски: расположение). Однако по логике — перестройка возможна лишь в рамках категориальной схемы, то есть, в данном случае, при сохранении семантики, целостности ситуации. Значения слов (или иных единиц высказывания) чаще всего зависят от порядка развертывания иерархии; в лингвистике это называют дейктической модальностью: видение с позиций одного из участников (не формальных, а всамделишных). Разумеется, в живой речи реорганизация захватывает не только лексику и синтаксис, но и все остальные аспекты речи (письменной или устной). Но даже частичное осознание этого факта практикующими лингвистами — серьезный шаг вперед. Давайте поаплодируем.
Портит впечатление лишь концовка за упокой: например, предложение (1а) можно прочесть с другой интонацией, и тогда речь будет именно о крестьянине (предполагая расширение: а не барина или купца). Сама же Падучева несколькими страницами выше включает интонационный фактор в список необходимых семантических показателей. Точно так же, в (1б) крестьянин мог быть убит горем, и (или) совсем в другом смысле... Мы снова приходим к невозможности корректно рассуждать о семантике вне достаточно широкого речевого контекста.
Продолжая диатетическую тему, посмотрим на два падучевских примера:
Мой сын пошел в школу.
У меня сын пошел в школу.
| |
И точно так же:
Твои жалобы надоели.
Ты надоела своими жалобами.
| |
Это ругательно обзывается "расчленением генитальной генитивной группы" и подается как разновидность "диатетического сдвига". Но козе понятно, что в обоих примерах первый и второй варианты говорят о совсем разных вещах, и те же слова ссылаются на разное. Первое (при "нейтральной" интонации) — сообщает факт; второе — отношение к факту. Когда "жалобы надоели" — это одно, а "ты надоела" — совсем другое! "Кто-то пошел" — не то же самое, что "у меня произошло событие". Формально, содержание высказывания не меняется. Меняется речевой контекст: разговор или об объекте — либо о субъекте. Соответственно, разные задачи: сообщение — или самовыражение. Есть еще и третий вариант: указание на культурную нишу, стремление застолбить место под солнцем. Плюс всевозможные комбинации.
В другой статье (из того же сборника) Падучева обращает на это внимание — и даже спорит с "самым авторитетным источником" (то бишь, с Апресяном), предлагая совершенно новый термин: тематическое выделение (в отличие от банальной смены ремы):
|
...разница в выборе темы, т. е. в тематическом выделении, а не в рематическом акценте.
| |
Вот за что мы ее уважаем — при том, что Апресян для нас вовсе не авторитет. Остается только предложить реально динамическую модель, указывающую на механизм развертывания семантики — и динамику смены темы в пределах дискурса. Действительно, предложения в каждой паре примеров разделены в деятельности: это варианты выбора, а в живой речи реализуются не оба сразу. У каждого свой контекст. Но мы прекрасно знакомы с тем, как у одного автора в одном тексте мысль нередко перескакивает с одного на другое — и даже если он не начинает явно заговариваться, внутренняя противоречивость текста бросается в глаза. Непосредственно перед нами — книга Падучевой. Но под статью подпадают не только гуманитарии. Ярчайший пример — тот самый, из пяти букв. Якобы строгая математическая теорема о полноте и непротиворечивости формальной теории — а доказательство сводится к кодированию положений теории целыми числами, то есть, по сути, разговор о теории незаметно соскальзывает на разговор об одном из ее представлений (формальный язык), и в итоге доказана лишь некорректность отождествления теории с языком, что очевидно и без всяких доказательств. Заметим, что это не единичный случай, а, скорее, типичная особенность математических доказательств, порок схоластического метода, утвержденного на роль всеобщего принципа всякого мышления указом правящей верхушки цивилизованного (то есть, классового) общества. При некотором навыке, причины и технику семантических сдвигов (логику манипуляции) можно вытащить на белый свет; как минимум, это полезно в плане борьбы с промыванием мозгов (предполагая, что бороться с ним кому-то полезно).
Однако область применимости представлений о тематической динамике гораздо шире. Соединение нескольких тем в одном тексте — далеко не всегда аномалия и алогизм. Иногда оно совершенно необходимо для верного изображения характера самого предмета — его движения и развития. Этим занимается диалектическая логика — и любая рефлексия, поскольку есть потребность сопоставить разные исторические формы одного и того же, или говорить о многоуровневых структурах. В частности, об уровнях языка.
Пример совершенно сознательного переплетения тем — искусство. Про фуги и прочую полифонию все наслышаны. Сочетание тем разного масштаба в средневековой архитектуре — поражает нас до сих пор; к сожалению, современные архитекторы (под влиянием рыночной унификации) сложно мыслить почти разучились (или прячутся). Образец иерархичности — поэзия (в отличие от индустриального виршеплетства). От нее один шаг до лингвистической научности — а для лингвистики поэзия была и остается крепким орешком и испытательным полигоном, пробным камнем любых теорий: если поэтическая практика не подтверждает наших красивых гипотез — они, скорее всего, неверны.
Но вернемся к меткости пальцеуказания. Еще парный пример:
Женщина есть женщина.
В то время женщины — это были женщины.
| |
Утверждается, что первое — главным образом отрицательная оценка, а вторая конструкция какую-то предполагает положительность. Словечко это, дескать, радикально меняет дело. Замечание глупое, поскольку сам факт выбора лексики и синтаксиса связан с необходимостью выражения чего-то вне языка, и разные ситуации потребуют и различного оформления. Но если я скажу: женщины тогда были женщинами! — никакого специального словечка не требуется, при той же (предположительно) положительной оценке. Еще одна синтаксическая схема. Она отличается от обсуждаемой здесь схемы "X есть X" — но не принципиально; а народ уперся в голую форму — чтобы буквально! Детский сад, ясельная группа. А потом:
|
...мы вправе заключить, что конструкция "X есть X" не может быть описана на чисто семантическом уровне: ее толкование обращено не к смыслу слова X, а к связанной с ним импликатуре, которая целиком на совести говорящего и, в принципе, может быть своей для каждого употребления высказывания этой формы.
| |
То же самое можно сказать о всякой вообще синтаксической конструкции: описывать ее "на семантическом уровне" — надо уметь; а кто не умеет — пытаются толковать через составные элементы, и попадают пальцем в небо, потому что не учитывают главного — личности составителя. Синтаксис не случаен — но его семантика никак не связана с лексикой, она восходит к древнейшим пластам человеческой культуры, к истории зарождения сознания вообще и классовых его форм в частности. С другой стороны, выставлять чью-то совесть в качестве критерия осмысленности — совсем не по существу. Достаточно покончить с попытками толкования изолированных фраз, вернуть их в контекст, — и тогда никакого субъективизма, все определяется речевой ситуацией. Разумеется, для каждой схемы (речевого оборота) есть свой минимум расширения контекста; для некоторых идиом все и в словарной презентации почти однозначно (например, до смерти избитая хохма: в ⟨некотором⟩ X есть доля X). Делать же далеко идущие выводы из притянутых за уши сопоставлений...
Маразм есть маразм.
Маразм — это маразм.
| |
Как ни скажи — суть одна...
Такие же перлы глубокомыслия и в теории перевода.
Ясунари Кавабата, Снежная страна:
|
Пройдя через длинный тоннель на границе, была снежная страна.
| |
Это подстрочник. И его Падучевой хватает, чтобы учить корешей жить:
|
Перевод этой фразы на европейские языки требует, как минимум, указания субъекта: кто прошел через тоннель? В дальнейшем описании фигурирует поезд; однако поезд не находится в фокусе внимания, и японский синтаксис не требует его включения в концепт ситуации — при том, что для английского или русского языка это обязательно.
| |
Небу, наверно, уже больно. Ребята, давайте таки думать правильным местом! Плохой перевод (то есть, по сути, его отсутствие) — не аргумент. Ну кто же переводит произведение искусства по словарю? Апресяновские роботы. Художественный перевод не только предполагает, но и требует перестройки формы текста в соответствии с культурными нормами языка-цели. Переводить не буквально, не лексически и не синтаксически — а по существу:
|
Путь сквозь длинный тоннель на границе; а за ним — снежная страна.
| |
Это красиво, это точно передает настроение оригинала — но никак не японскую грамматику. Заметим, что даже грамматика подстрочника имеет место быть в русской литературе:
|
Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.
| |
Но переводчик на то и разумное существо, чтобы относиться в делу творчески, и не лепить чернуху, а духовно обогащать как русского читателя, так и японский оригинал.
Масса веселостей по поводу лингвистических импликаций. Прямо-таки сборник анекдотов. Типичный образец:
|
...большое число глаголов предполагает существование своего объекта в качестве тривиального следствия: Соловьи поют. ⇒ Соловьи существуют.
| |
Ну да, конечно: ангелы поют ⇒ ангелы существуют. В этом смысле существует вообще все что угодно. Но когда финансы поют романсы — это, скорее, об их несуществовании...
Еще пример:
|
Человек, который видит, смотрит: видеть ⇒ ‘смотреть' (Обратное неверно)
| |
Неверно и прямое: можно видеть внутренним взором, или подсознательно воспринимать навязчивую рекламу, или еще как-нибудь. Вариантов вагон. Особенно если смотреть в переносных смыслах.
Напоследок позволю себе тоже улыбнуться...
...показатель кратности отменяет значение единичности, которое по умолчанию имеет совершенный вид:
(9) а. Он поцеловал ее на прощанье. = 'один раз'
б. Он поцеловал ее трижды.
| |
Как насчет художественной литературы?
|
Он поцеловал ее на прощанье. Трижды. И решил остаться.
| |
Вот вам типичный образчик семантической динамики, для которой у Падучевой моделей не нашлось. Развитие ситуации размывает лексическую определенность, меняет смысл уже сказанного — но не отменяет его, а переводит на новый уровень, собственно динамический. Две очевидные возможности: от объекта и от субъекта. В первом случае акценты расставляет сама жизнь, во втором — порядок нашего с ней знакомства (что, впрочем, тоже часть жизни, которая, в свою очередь, становится нашей жизнью только в процессе переживания).
Много многоточий.
Улавливаете общую идею? Какие-бы примеры языковой специфичности нам ни приводили, мы тут же начинаем искать контрпримеры — и обязательно их находим! Почему? Да потому что любое ограничение заведомо предполагает наличие границы — а значит, и того что за ней. Нельзя запереть разум ни в каких рамках: его главное определение — универсальность, всеохватность. Поэтому речь не о том, чтобы приписать каждому слову какую-то структуру значений — наоборот, надо показать, что каждое слово способно передать любую семантику — задача науки в том, чтобы обнаружить фундаментальные механизмы этого движения, дать принцип увязывания интерпретации не только с набором типовых контекстов (и уж тем более не с текстом!), но и с развитием деятельности, включая как материальные тела, так и общение по их поводу. Вот это и будет по-настоящему динамической моделью.
Книга Падучевой — эмпирическое подтверждение самого факта ничем не ограниченной лексической подвижности. Попытка создания словаря формальных толкований на основе априорной таксономической схемы — своего рода мысленный эксперимент, доведение структурной логики до абсурда, когда ограниченность подхода становится совершенно очевидной. Но, как говорится, не попробуешь — не узнаешь.
Однако из опыта надо делать выводы. Например, методологические. И первая очевидность в том, что не дело валить в одну кучу разные языковые явления, да еще и сваливать туда же совсем (или почти) не относящееся к языку. А тут встает на дыбы корпоративная гордыня и объявляет полный провал невероятным успехом, букет ошибок — единственно верным решением. Что же мы — семьдесят лет ерундой занимались?
Не ерундой. А серьезным научным поиском. Только, вот, сообразить, что именно мы нашли, — одного шага не хватило, самой малости. Того самого языка, которым только и возможно говорить о внутренне подвижных и внешне изменчивых вещах. Выяснилось, что у слов самих по себе (равно как и "других языковых единиц") практически нет никакой специфики, и ни одно из них не заслуживает полновесной словарной статьи:
|
Инвариант как общая часть (теоретико-множественное пересечение) разных значений слова обычно исчезающе мал и бессодержателен. Между тем инвариант можно попытаться представить как теоретико-множественную сумму всех значений слова, из которой в каждом употреблении ничто не утрачивается, а наоборот, может в любой момент попасть в резонанс и стать актуальным.
| |
Почти формула открытия. Почти призыв освободиться от (принципиально структурного) математического жаргона и признать, что есть парадигма нового типа, несводимая ни к структуре, ни к системе, — что само различие структур и систем существует лишь в их отношении к чему-то третьему, для чего наш язык пока не изобрел подходящего термина. Давайте пока (за неимением лучшего) называть это иерархичностью, способностью одного и того же проявлять себя разными способами — когда на первый план выходит что-то одно, а все остальное присутствует на нижних уровнях. Вершина иерархии представляет ее целиком — но можно развертывать иерархическую структуру и говорить структурности разных уровней; это автоматически означает, что, при сохранении чего-то на высших уровнях ("инвариант"), структуры низшего уровня оказываются "взаимозаменяемыми" — и возможно перевести одну в другую стандартными методами, которые также иерархически упорядочены. Так иерархические структуры становятся иерархическими системами. Если по жизни во главу угла встает другой элемент иерархии — придется аккуратно (чтобы не порвать сложившиеся связи) свернуть прежнюю иерархическую структуру — и постепенно (вытаскивая на свет одно за другим следуя объективной связи) развернуть новую, с ее собственными внутриуровневыми и межуровневыми отношениями. Это называется обращением иерархии.
Работа Падучевой убедительно демонстрирует обращаемость семантических иерархий. Иногда вопреки ее собственным намерениям. Когда таксономия (иерархическая структура) выдается за системность, а значения лексем принимаются за их смысл, — это тяжкое наследие прошлого, от которого одним рывком не сбежать. Среди статей сборника некоторые ближе к идее иерархичности, некоторые совсем далеки. Наша задача — признать несомненную пользу, но сосредоточиться, главным образом, на теоретических и идеологических ляпах, чтобы последующие поколения не наступали лишний раз на те же грабли. Первым делом хочется развести уровни иерархии, хотя бы как-то предварительно и в общих чертах. В диатетической логике это обыкновенно делается расположением интересующей нас категории X между двумя другими (в каком-то смысле противоположными) категориями A и B — в результате чего исходная категория расщепляется (в этом конкретном контексте) на два уровня A(X) и B(X), характеризующих ее отношение к внешней противоположности (которая, здесь играет роль шкалы); в иерархическом подходе это соответствует развертыванию иерархии X разными способами, выделению разных иерархических структур. Поскольку же речь идет об уровнях (разных сторонах, структурах) одного и того же, эта (системная) связь должна быть как-то практически реализована, что логически представляется особой категорией ("внутренним строением", "структурой системы"), промежуточным уровнем, который в свою очередь допускает развертывание по той же схеме:
A ⇒ B
A → X → B
A → (A(X) ⇒ B(X)) → B
A → (A(X) → X → B(X)) → B
Понятно, что разные шкалы выявляют разные иерархические структуры — и нет никакого единственно правильного описания. Поэтому идея составления сколько-нибудь "полного" словаря (тезауруса, базы данных, базы знаний) — чистейшей воды утопия. Точно так же, как и задача полного описания одного-единственного слова:
|
Семантика словаря неисчерпаема. Даже в отношении одного отдельного слова не всегда можно быть уверенным, что, описав его, мы исчерпали его смысл. А что уж говорить обо всем словарном составе языка.
| |
Но что такое — это ваше "описание"?
|
Как и ранее, мы описываем значения слов схематическими толкованиями — своего рода семантическими формулами...
Ср. понятие структурной формулы в химии. Структурная формула отражает способность вещества вступать в те или иные соединения; возможная связь между фрагментом формулы и "физическим" свойством вещества и т. д.; то же верно, mutatis mutandis, для семантической формулы слова.
| |
Легким движением руки смыслы превращаются в значения — а это вещи не только разные, но даже противоположные: смысл любого действия — указание на ту деятельность, которую оно призвано реализовать, тогда как значение того же действия — указание операций, в которых это действие может быть осуществлено. В общем случае — отношение к вышележащему и к нижележащему уровням иерархии соответственно.
Падучевские формулы — один из способов формального представления значений. В плане науки о языке, это не семантика, а прагматика — перечисление возможных употреблений. Откуда берутся эти значения — на операциональном уровне объяснить невозможно: одно ничем не хуже другого. Говорить о смысле изолированного слова — полная бессмыслица! Смысл появляется лишь в конкретном употреблении; когда речь подчинена речевому намерению. Это и есть собственно семантическая характеристика. При осмысленном употреблении, на вершину иерархии выходит одно из возможных значений (одна из "валентностей", активных компонент). Однако смысл лишь представлен этим значением, а вовсе не сводится к нему. Происхождение операций — свертывание деятельности. Точно так же, значения суть "редуцированные" смыслы. Это позволяет в каких-то случаях по заданному значению "восстановить" полноценную деятельность, осмыслить текст. Разумеется, такое развертывание неоднозначно: оно целиком зависит от речевой ситуации. В искусстве это образное богатство; в науке то же самое может стать источником заблуждений и ошибок.
Разумеется, лексические единицы — не только слова. Существуют устойчивые речевые обороты, которые в норме никто не разделяет на компоненты (стертые идиомы, аналогичные китайским чэнъюй). В некоторых случаях значение и смысл могут приобретать и части слов (например, при сознательном обыгрывании морфем, или в народной этимологии). Точно так же, нерасчленимой целостностью могут становиться развернутые тексты (например, стихи). Все зависит от того, что у нас станет собственно высказыванием, речевым актом, действием. В соответствии с приведенными выше логическими схемами, переход от значения к смыслу (и наоборот) опосредован особым уровнем языка — который легко идентифицируется с формальной организацией речи, грамматикой, — и в этом контексте, развертывается в триаду
словообразование → морфология → синтаксис
Таким образом, в шкале ситуация ⇒ намерение (объект ⇒ продукт) всякий текст (в частности, слово или фраза) выступает в определенном значении и приобретает смысл, что определяет форму текста, его языковую организацию. Но существуют и другие шкалы. Например, одно из обращений иерархии деятельности, шкала продукт ⇒ субъект, в лингвистике превращается в шкалу речение ⇒ идея; всякое языковое явление (текст) при этом характеризуется не значением и смыслом, а формой и содержанием (которые воплощаются в разном материале). Точно так же, шкала субъект ⇒ объект порождает лингвистическую шкалу расположение ⇒ выражение, выявляющую в тексте тему и рему, а в качестве связи — всевозможные сценарии (взаимодействие абстрактных "участников", предполагаемые роли), включая всевозможные ранговые отношения, акцентуацию и диатетические сдвиги. Именно в этой шкале возникает впечатление, что
|
...языковые выражения не обозначают объекты и ситуации реального мира, а, в определенном смысле, их создают.
| |
Можно рассматривать и другие шкалы, обращения других категориальных схем. Важно отдавать себе отчет, что это не однопорядковые структуры, а разные проявления целого, разглядывание с разных сторон. Такие описания нельзя сопоставлять напрямую, и всякое свойство языка, сформулированное в одной шкале, предполагает сразу все уровни других шкал. Более того, выделение элементарных речений, вообще говоря, зависит от используемой шкалы. В частности, есть шкалы (например, фонологические или интонационные), где говорить о словах вообще не приходится, — и бесполезны словари.
Лингвистический структурализм — не абсолютное зло; изобретение всевозможных таксономий остается одним из ходовых приемов предварительной обработки огромных массивов данных, собственная иерархичность которых пока не очевидна. Когда нам заявляют:
|
удалось выявить целый ряд важных параметров лексического значения, т. е. признаков, по которым слова объединяются в большие классы...
| |
это надо воспринимать с юмором, поскольку речь не о "выделении", а о теоретическом диктате, приписывании свойств волевым решением, от фонаря; когда потом под эту схему причесаны тонны фактов, создается впечатление ее теоретической обоснованности — но это иллюзия, ибо произвол — таки произвол. И потом оказывается, что
|
во многих своих аспектах — на многих, и причем обширных, участках — лексика представляет собой систему, которая устроена просто.
| |
Да, она будет устроена просто, если ее соответственно упростить, выбрать очень грубый масштаб. Это не криминал: иногда нам по жизни нужен именно такой, упрощенный продукт. Только не надо возводить частные методики в абсолют, и школьный глобус полезно дополнить большим атласом мира, а тот развернуть в топографические карты каждой деревушки, где любая кочка — монумент.
Способ описания зависит от того, кто описывает, и зачем оно ему нужно. Всякий объект определен только через противостоящего ему субъекта, в контексте вполне определенного производства. Для лингвистики это особенно актуально. Пожалуйста, придумывайте абстракции и стройте из них формулы строения лексики — если это соотносится с каким-то практически полезным способом эту лексику употреблять. Например, в арабской или индийской каллиграфии слова можно классифицировать по признаку "лигатурности"; другой известный пример — всевозможные критерии нормативности (включая специальные словари для работников прессы, радио и телевидения). Решили вы ограничиться набором из десятка признаков — ваше право; но всегда полезно очертить область потенциальных применений и указать пределы применимости.
Существуют ли универсальные идеи? Каждая универсальна! Но класс возможных реализаций — вопрос чисто практический, а вне практики идеи просто не существуют. Пока мы не выросли до размеров Вселенной, приходится иметь дело с ее проекциями, локальными моделями. И слова наших языков — всего лишь проекции деятельности, бессмысленные сами по себе. Это не семантический анархизм, не отсутствие каких бы то ни было определенностей. Скорее — принцип исторической относительности: любые семантические структуры — от деятельности, от строения культуры на одном из ее уровней. Лингвистическая семантика имеет место быть — хотя и меняется от одной эпохи к другой, от одного социального слоя к другому. Лексема совместима с разными семантиками, а семантемы выразимы разнообразнейшими формальными средствами (не обязательно лексическими).
Можно согласиться, что
|
Для описания динамики лексического значения, т. е. перехода одних значений в другие, нужно иметь так или иначе формализованное представление смысла слова.
| |
С той поправкой, что формализовать надо именно значения, а не смыслы, — а иначе речь будет о динамике смыслов, выходящей далеко за рамки лингвистики. Однако накладываемые на лексику формальные классификации — ничего не говорят сами по себе: все зависит от того, для чего мы их используем, как употребляем. Это всего лишь система координат. Если говорить о фиксированных значениях — это выделение классов лексем ("подпространств"). Если говорить о кинематике — ее естественно представлять изменениями координат. От одного комплекта параметров допускается переходить к другим — что никак не затрагивает изучаемые явления: например, слово остается тем же самым, какими параметрами его ни описать. В некоторых случаях изменения параметризации можно формализовать: если параметры в каком-то смысле однокачественны — получатся обычные координатные преобразования; если речь о фазовых пространствах — выйдет нечто вроде термодииамики. Взаимоотношения прагматики и семантики можно понять и в духе квантовой теории: лексические параметры задают наблюдаемые величины — а параметры значений становятся внутренними, так что имеют смысл только распределения; переход от значений слов к их смыслу тогда замечательно представим интерференцией квантовых амплитуд.
Однако все это богатство возможностей проходит мимо лексикографа, который наивно полагает, будто
|
описание смысла текста состоит из двух частей: словарь и грамматика.
| |
Нет в этом никакого смысла. Пустая комбинаторика. Слова сами по себе не предполагают никакой грамматики, а грамматика практически безразлична к выбору лексики. Соединить то и другое возможно лишь исходя из чего-то вне языка. А нам заявляют:
|
Говоря о семантике предложения или текста, мы будем ориентироваться на понимание уже сделанного высказывания слушающим, а не на порождение текста говорящим: речь идет о законах интерпретации, а не о порождении текста. Дело в том, что реально существует только такой смысл, который выражен каким-то текстом.
| |
Смысл может быть выражен текстом — когда смысл уже есть. То есть, когда порождение текста (речение) становится частью какой-то деятельности, вовсе не обязательно языковой. И текст становится осмысленным (в отличие от большинства падучевских примеров). Целиком, а не по частям. Выбор и способ соединения частей — выражение определенного намерения (не всегда языкового), поэтому здесь (как и везде) все определяет способ производства. Автор не просто так разговорился — у него вполне практические задачи. Предполагается, что восприятие будет в какой-то мере следовать заложенным в текст идеям и подвигнет публику на адекватные реакции. Но восприятие не пассивно — это тоже деятельность, и у нее свой продукт. Я как читатель далеко не всегда (практически никогда не) ограничиваюсь поверхностным ознакомлением: мне важно отыскать новые направления для самостоятельного творчества, и текст — лишь один из поводов, инструментов, или сырье для переработки. Поэтому я способен интерпретировать любой текст, сколь угодно бессмысленный. Например изолированное слово, шапку словарной статьи. Но эта интерпретация не встроена в слово — это часть меня. А поскольку я веду себя как разумное существо — я равен миру в целом, бесконечен, — и ни в какой словарь меня не вместить.
Как и большинство оторванных от жизни лингвистов, Падучева исходит их принципа композиционности: "смысл целого строится из смыслов частей". Положение в корне дурное. Точно так же можно было бы сказать, что смысл дома строится из смыслов отделочных материалов, а смысл пирога из смысла яйца, дрожжей, соли, воды и муки, плюс смысл начинки. Полная чушь! Смысл дома — чтобы в нем жить. Смысл пирога — чтобы его есть. Мы не будем жить в отдельно взятом кирпиче, а есть некоторые кулинарные ингредиенты можно лишь очень условно (например, условно съедобные грибы). Даже когда части сами по себе могут (в каких-то контекстах) иметь смысл, смысл составленного из них текста совсем другой: вопрос не о том, чтобы вывести его из лексики и синтаксиса, — а чтобы, наоборот, объяснить выбор именно такой лексики, и такого синтаксиса. Ни в одном языке предложения не складываются сами по себе, как природные явления: их делают люди, у которых есть сознательная цель.
Лексикографический мираж сопровождает нас из глубины столетий. В XI веке арабский филолог Абд ал-Кахир ал-Джурджани (старший современник Омара Хайяма) выдвинул идею, что слова классического арабского языка несут самостоятельные значения (ма'на), и значение любого грамматически правильного высказывания определено этими "атомарными" значениями. Любое изменение набора слов или способа их сочетания ведет к изменению высказывания — и ни одно изменение не может считаться незначительным. Поэтому, в частности, поэзия может следовать классическим образцам — но обогащать их, показывать новые грани.
Для арабского языка ход мысли совершенно естественный. Там стандартные приемы позволяют из единой основы (три согласных) построить огромное количество слов, включая как словообразование, так и грамматические вариации. При этом семантика основы неизменно сохраняется — и возникает обширное словарное гнездо. Взаимодействие таких, семантически насыщенных полей в поэзии позволяет передать тончайшие оттенки смысла.
Развитие индоевропейских языков шло другим путем — и здесь идиоматика выше грамматики: высказывания зачастую заимствовались целиком из разных диалектов, вместе со своим значением, — и спорадически возникающие стандарты никогда не охватывают всего и вынуждены как-то сосуществовать (в арабском языке аналогично складывались, например, шаблоны образования множественного числа имен). Примат идиоматики в европейских языках сохранился до сих пор — и это во многих случаях не позволяет говорить о значении слова самого по себе: оно определено только в контексте, в целостной фразе (иногда лишь тонким намеком на идиому). Точно так же, тропы в европейской поэзии возникают во взаимодействии контекстов, а не в тексте как таковом.
Но даже если подозревать у Падучевой арабские корни, придется ее разочаровать: арабские поэты, конечно, придерживаются определенных правил (особенно в классическую эпоху) — но сочиняют они вовсе не про породы глагола или масдары, и даже не про разбитое множественное число, — они пишут за жизнь, и обогащают семантику корней неожиданными связями с тем, что у всех на слуху и на виду, на хорошей закваске личных переживаний. Поэтому один и тот же глагол в той же синтаксической конструкции приобретает у разных поэтов разный смысл. Для русской поэзии — это тем более так. Если не учитывать практики — единственного источника смыслов, — то в любой науке окажется, что
|
Знание — это трансцендентно возникающее состояние субъекта...
| |
И тогда, конечно, разрешается говорить что угодно... — да и наука, в общем-то не нужна. При том что в языке — тысячи конструкций для передачи оттенков знания, и способов его обретения, и возможностей с кем-то поделиться. Знанием, как и красотой, как и любовью, — нельзя командовать. К ним можно лишь стремиться, и удивляться при каждой встрече. Некоторых это не устраивает:
|
Есть, однако, надежда, что лингвистика в целом [...], сохранив унаследованную от структурализма установку на формальные модели, будет и впредь отторгать такие построения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
| |
Нет уж, давайте без черно-белой лингвистики, апофеоза воинствующего апресянизма! Нам просто неинтересно с кем-то спорить — нам важно строить жизнь и жить, а не доказывать или опровергать.
В качестве эпилога, хотелось бы вернуться к вышиванию розочек. В русском языке (как и в любом другом) бывают парадоксальные (но вовсе не аномальные!) высказывания. Например:
|
Поворот налево — прямая дорога в ад.
| |
Здесь вовсе не обязательно имеются в виду механические перемещения — речь может идти и о политических убеждениях. В том же смысле кому-то скажут:
|
Вам прямая дорога налево.
| |
Оказывается, чтобы пойти прямо — надо свернуть! Такие трюки используют остряки всех мастей — и есть культуры, где игра слов стала частью менталитета (как у французов). Всякому здравомыслящему ясно, что никакого противоречия тут нет, поскольку значения и смыслы как текста в целом, так и его составляющих (элементы и структуры, лексика и грамматика), не существуют сами по себе, а возникают в контексте некоторой деятельности. В данном случае можно предположить, что налево соотносится с (условно) горизонтальным расположением предметов в поле зрения (возможно, внутреннего), — тогда как прямая дорога никак не связана с пространственными направлениями: это целостная конструкция, идиоматический оборот, (вполне аналогичный, например, английскому direct/straight road/route), — и характеризует он не перемещение, а способ действия. В составе предложения — это одна лексема; однако мы можем развернуть ее собственную иерархию и поинтересоваться, как в этом контексте связываются и (пере)осмысливаются ее слова. При этом обнаруживается, что "прямизна" вполне соотносится с современной дифференциальной геометрией, где вместо прямых линий говорят о геодезических, кратчайших путях из одной точки в другую. Разумеется, "человек с улицы" вряд ли задумывается о высшей математике; скорее, наоборот: математика развивается исходя из обыденных представлений, постепенно осваивая их иерархичность. В составе идиомы — дорога утраивает значение пространственной связи и употребляется в переносном значении, как способ действия (английское way, китайское 道). Но почему все-таки дорога, а не путь? Потому что речь о действии — а не деятельности или операции; на этом уровне важно сохранить ощущение движения — но движения к чему-то законченному. Это еще один уровень развернутой иерархии.
Интуитивно, фразы такого типа чем-то отличаются от предложений вроде
Традиционная лингвистика, не замечающая ничего кроме формы, просто подшивает факт к делу, разводя "предикативные" и "активные" конструкции, грамматику бытия и грамматику действия. С точки зрения семантики (то есть, в отношении к деятельности), речь идет об обращения иерархии деятельности: вышивание розы соответствует "основному" обращению иерархии, семантической схеме
{объект}{субъект}{продукт}
тогда как дорога в ад представляется схемой
{субъект}{продукт}{объект}.
В обоих случаях фокус (вершина иерархии) на последнем звене, а первое звено (низший уровень) чаще всего никак не представлено в тексте и восстанавливается либо по контексту (в том числе общекультурному — как типовая ситуация), либо расширением текста, явным указанием обстоятельств дела. Семантика обращения соответствует идее превращения продукта какой-то деятельности в объект как предпосылку новой деятельности (или продолжение прежней). Точно так же, еще одно обращение иерархии порождает семантику
{продукт}{объект}{субъект},
охватывая разнообразнейшие высказывания о восприятии, знании, принятии решений и т. д. Однако и это еще не все. До сих пор мы говорили так называемом "материальном" цикле в строении деятельности
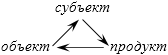
Но есть еще и цикл рефлексии, который в семантическом плане описывает не деятельность как таковую, а субъективное отношение к деятельности:

Понятно, что выбор лексики и построение фразы во многом зависят еще и от этого внутреннего настроя, и здесь можно долго исследовать как порожденные этим циклом рефлективные семантические схемы, так и взаимодействие их с "коммуникативным" уровнем. Ограничимся лишь указание на (возможную) двуплановость примеров с поворотами: с одной стороны, это собственно сообщение — а с другой, намеренная игра слов; только с учетом обеих сторон выбор выразительных средств (строение речи) становится оправданным (семантически определенным).
Универсальность семантических схем позволяет единообразно описывать порождения смыслов и значений в самых разных языках. Прямая аналогия из британского юмора:
|
When you keep left you keep right, and if you keep right you keep wrong.
| |
Разумеется, существуют и другие речевые намерения, которые существенно меняют интонации, расстановку акцентов и т. д. — то есть, в конечном итоге, семантику. Вышеприведенный британский образчик в контексте этой статьи употреблен вовсе не для смеха — и в семантической иерархии появляются дополнительные уровни, соответственно строению моего писательства. Для многоуровневой рефлексии существуют особые схемы.
В зависимости от неречевого контекста и речевого намерения одни и те же слова могут обозначать все что угодно. Продолжая поворотную тему, возьмем простейшую фразу, которая вполне может возникнуть в живой речи (устной или письменной) именно в такой форме:
Что это значит? Из словарного состава и грамматики не следует совершенно ничего. Если интонацией выделено последнее слово — напрашивается "информационная" трактовка, вроде инструкции ли ответа на вопрос. Но даже если принять такое уточнение, мы не можем сказать, то ли это подсказка, то ли предупреждение, то ли запрет... И совершенно неясно, что там, за поворотом: продолжение пути, тупик, возврат к началу, желанный или страшный конец... Опять же, возникающая в итоге ситуация может быть случайностью — или искомым решением; при том что целью по жизни становится и достижение, и его отсутствие, — и даже бесцельность.
Но переставьте акцент на первое слово — и возникает новый веер ассоциаций: просто отсчет — или подозрение, раздражение, — или приказ. Наконец, можно поиграть знаками препинания: закончить вопросительным или восклицательным знаком, вставить тире, или запятую... Вся эта неоднозначность иногда становится осознанным намерением — например, в поэзии, или в практике психологической манипуляции (НЛП).
Толкование текста (включая изолированные слова или идиомы) возможно лишь в рамках единичного действия, подчиненного соответствующим образом мотивированной деятельности. Всякий выбор — огромная ответственность, предложение перестроить всю иерархию культуры одним из возможных способов; и не факт, что собеседники (или читатели) с таким подходом согласятся. Поэтому эмпирические "подтверждения" употребительны в лингвистической семантике лишь в качестве иллюстраций, когда идея целого уже ясна, и надо лишь развернуть его иерархию определенным образом, поиграть на предполагаемую публику. А это уже из области рыночных категорий. Как только продукт выходит на рынок — интерпретации застывают, и научное исследование превращается в навешивание ярлыков. В этом главный порок профессиональной лингвистики: положение обязывает. Вот и получается, что солидные дяди и тети разменивают идею на совсем не солидные формалистические вольности и вместо того, чтобы учиться у тех, кто различными языками разговаривает, — начинают их поучать. Жизнь найдет способ обойти предписания и обойтись без навязанных извне норм. Да, мы учимся быть понятными и выразительными, и в каждом общении подбирать нужные слова. Но в конечном итоге нам предстоит общаться без прикрас, легко и непринужденно. Потому что свобода — это когда не надо выбирать.
|