|
У всякой (даже очень предварительной) науки есть предмет, есть понятийный аппарат, и есть круг принципиально возможных приложений. Эта внешняя определенность внутри науки представлена ее эмпирическим, теоретическим и методологическим уровнями. Насколько они развиты, и что когда преобладает, — интересный вопрос, но заниматься им будет уже другая наука. Ясно, что все это очень подвижно — и прежде всего, в силу развития предметной области и человеческих потребностей. В определенных экономических условиях, внутреннее строение науки превращается во внешнее противостояние разных наук, расставленных по уровням академической иерархии. И тогда рыночная конкуренция заставляет искать не соответствия предмету, а весомой аргументации в пользу собственной исключительности; поскольку же такая деятельность заведомо выходит за рамки науки, любые аргументы становятся преимущественно формальными. То есть, вместо того, чтобы присмотреться к сути дела, мы начинаем обращать внимание на то, как о ней говорят, — и дороже ценим тех, у кого хорошо подвешен язык. А значит, попадаем в сферу интересов науки лингвистики.
Тут нам предлагают фейерверк возможностей. На эмпирическом уровне складывается особый способ фиксировать факты: не абы как, а определенным, хорошо воспроизводимым порядком. Строение такого языка определено в основном строением предмета — но языковые структуры выделяют существенное в нем, берут вещь в определенных отношениях, — и здесь важно не увлечься абстракциями, не приписывать вещам того, с чем они знаться не хотят.
Противоположный, методологический полюс — как раз и нужен, чтобы регулировать разумность предписаний. Мы вырабатываем правила формулировки гипотез и постановки проблем. Те самые, абстракции, которые позволяют превратить первородный эмпирический хаос в фактуальное знание. Все как в психологии: восприятие структурирует ощущения, подводит их под заранее приготовленные образцы (перцептивные установки). Языки методологического уровня полностью конвенциональны; по сравнению с "естественными" речениями эмпирии — это "искусственные" языки. Однако возникают они под мощным давлением практических потребностей, и никогда не становятся вполне определенными, сохраняют достаточную гибкость, чтобы быстро адаптировать поведение к новым обстоятельствам.
В качестве перехода от одного уровня к другому — научная теория, в которой от фактов и методов остается, соответственно, терминология и идиоматика. Поверх этого надстраивается сущность другого типа — формальный язык, технология порождения "правильных" комбинаций каких угодно "термов". Сами по себе такие "формулы языка" совершенно бессмысленны; чтобы этот сюр приобрел общественное звучание, надо хотя бы смутно представлять себе, что мы собираемся делать дальше, — и просеивать горы нарочитых нелепостей в поисках намеков на возможные способы действия.
Начало XX века — расцвет неопозитивизма, с его многочисленными разновидностями: логический, семантический, конструктивный... Сюда же примыкают структурный и системный подход, теория информации. Общее ядро этого букета — сведение теории к ее языку, который при таком раскладе не может не быть формальным. Появляется формалистический критерий "главенства" наук: чем абстрактнее — тем благородней! На первое место, само собой, претендует математика, которую, в духе времени, стремятся отождествить с математической логикой — а эту последнюю трактуют как всего лишь теорию формальных языков, и даже этот огрызок подменяют каким-нибудь символьным исчислением. Понятно, что под столь урезанную модель невозможно подогнать вообще ничего; хитроумные рассуждения формализаторов поголовно сводятся к одному: заметание мусора под ковер. Ловкие фокусы с подменой одних терминов другими, смешение принципиально разных уровней рассмотрения, циркулярность... В общем, полный комплект логических ошибок и софистических технологий, призванных морально подавить собеседника, выставить его полным идиотом и вынудить (за неимением лучшего) принять на веру аргументацию напористого пропагандиста. Сейчас это называется нейролингвистическим программированием.
Допустим, что нейронов нам и своих хватает; поэтому поинтересуемся собственно лингвистической частью. Теория для нас не царственная особа, а нищая служанка: ей говорят, что доказывать, — и она это доказывает. Как? Путем такого определения правильности, при котором заведомо получится желаемый результат. Кто командует — умолчим для ясности. Однако сама по себе подтасовка формализма под внешние обстоятельства — вовсе не криминал; это нормальный ход научной мысли, которая таким способом выявляет в реальной жизни объективно присутствующие формальные компоненты. Вредительство начинается там, где часть выдают за целое — и формально запрещают интересоваться другими возможностями. Свободный (то есть, разумный) человек вполне может допустить тождество научной теории и формального языка — но с оговоркой, что предполагается выбор определенного уровня в определенным образом развернутой иерархии науки. Грубо говоря, всякое измерение — это прежде всего выбор шкалы; в другом масштабе наблюдаемая картина может существенно измениться.
Таким образом, допустимо представлять какие-то аспекты предметной области формулами абстрактного языка, которые, в свою очередь, представляются компонентами языка более высокого (по степени удаленности от предмета) уровня. Разумеется, предмет при этом никуда не исчезает, а прячется в глубине — и при необходимости поправляет кривые построения зарвавшихся теоретиков. Но на поверхности все выглядит полнейшим произволом: третируем терминологию как заблагорассудится, пока не сложится понятный лишь посвященным профессиональный жаргон; идиомы этого блатного языка теоретик и предлагает в качестве рабочих гипотез, и начинается по-настоящему творческая работа: перевести формулы в методологические предложения и попытаться обнаружить в предметной области похожие факты. В сильно формализованных науках может потребоваться цепочка переходов с уровня на уровень — и где-то в конечном итоге мы таки упремся в предмет.
Но что получится, если в качестве предмета взять не осязаемую вещь, не реалии материального и духовного производства, а надстроечное образование — язык? Нет, эмпирия и методология остаются как были — тут никаких странностей. Но в теоретическом плане оказывается, что формальной моделью языка становится другой язык! То есть, лингвистическая теория, по сути, занимается конструированием языков, в какой-то мере (хотя бы метафорически) напоминающих реально существующие; поскольку же язык любой теории представлен каким-то уровнем одного из естественных (то есть, используемых в живом общении) языков, — оказывается, что язык становится знанием о самом себе. Никакой мистики: в каждом конкретном случае дело ограничивается одной из возможных иерархических структур, а единство этих частных моделей устанавливается вне науки. Здесь нам важен универсальный результат: теоретическая лингвистика — порождение формальных языков как теоретических моделей живого общения. Яркий пример такого рода теории — знаменитый трактат Панини. Труды европейских грамматистов также дают не сводку конкретных рекомендаций (для этого существуют учебники и словари), а схемы формальных языков, по возможности приближенные к соответствующему предмету.
Вовсе не обязательно моделировать язык в целом: любые языковые компоненты возможно познавать в форме абстрактного языка — наглядно и занимательно! Конечно, говорить о них по отдельности возможно лишь в каком-то приближении — но, ведь, любая теория осмысленна только в своем контексте, и специальные знания всегда подразумевают разумную область применимости. Фонология, морфология, семантика, стилистика устной и письменной речи, диалектология и теоретическая поэтика, — все это требует языкотворчества, и зачастую простой мысленный эксперимент полезнее тысячи страниц нелепого наукообразия.
Тут надо бы предъявить хотя бы махонькую иллюстрацию. Показать передовым примером. Но тогда от философии придется уходить в науку — а это явления разного порядка, и сочетать их в рамках одного (кон)текста надо с осторожностью. Чтобы не перепутать — и без эклектики, по существу. Поэтому попробую ограничиться чисто философским намеком.
В качестве подопытного выберем китайский язык. Для европейца — прямо-таки символ зарегламентированности, слепок со странной культуры, где тысячи лет пытаются жить по правилам. Про обманчивость этого предрассудка распространяться не буду. Но внешность тоже о чем-то говорит. Пристрастие китайцев к формальным классификациям, которые плавно перетекают в вековую традицию, а затем и норму, — прямо-таки на каждом шагу. Царство нумерологии, так и не ставшей собственно математикой. Возможно, я малость пережимаю, на европейский манер, — но это исключительно для выпуклости образа. Потому что речь пойдет о различиях эмпирической, логической и конвенциональной фонологии.
Казалось бы, тема давно исчерпана: написаны тонны книг, собственная традиция обогащается мировым (европейским) опытом, есть выверенная система обучения для своих и чужаков... Все это хорошо документировано и реально работает. Практика так и прет в критерии.
Но если я не профессор-синолог, а наивный студент или впечатлительный обыватель, количеством меня не убедить — ибо с источниками я мало знаком и предпочитаю судить по общему впечатлению. Память у меня не резиновая, и не нужны ей беспорядочные детали. Предпочтительнее четкий принцип — поверх которого и подробности лягут, если пошарить по справочникам. И тут выясняется, что европейский и китайский подходы — диаметрально противоположны, а сходятся они на полнейшем презрении к логике. Европеец в плену позитивизма: ему приятно тупо фиксировать факты — не заморачиваясь обоснованием принятого способа. У прагматичного китайца во главе угла технологии: зачем усматривать невиданное, когда можно следовать правильным образцам? Одни упирают на стихийную данность в опыте; другие — трактуют данность как предписание. При любом выборе от науки остается лишь изучение и освоение. А за общими принципами — проследуйте в другое место...
Хорошо, проследуем. Но сначала посмотрим, что дают эмпирия и школа. Они же не от фонаря — а на общем основании. Вот пусть и поработают точками опоры.
Традиция постановила: базовой единицей китайской речи считать слог. Который по этому поводу всегда обозначается особым знаком — а не как у некоторых, где графика может ссылаться на нечто вообще непроизносимое, и звучать начинают только комбинации абстрактных знаков (букв). Подпадавшие когда-либо под китайскую власть соседи (корейцы, японцы) завели у себя аналогичные правила; в фонологии самостийных соседей (индусов, семитов, тюрков, айнов) примат слога почему-то не приживается. По логике, тут бы хорошенько покопаться в истории, да выяснить: с чего это китайцам в голову блажь взбрела? Нашему наивному студенту упорно лезет в голову подозрение, что здесь налицо административная искусственность: в какой-то момент местной языковедческой рефлексии просто запретили углубляться в предмет — и на место внутренней логики волевым решением поставили промежуточный результат анализа, застывшую классификацию. Вроде средневекового сословного деления. Разумеется, на то есть экономические основания, условия становления и развития древнекитайской цивилизации. Но это отдельная тема — а для наших целей достаточно простой идеи: возможно, табличная фонология китайского языка — лишь иллюзия, формальность, а по факту китаец говорит как и все остальные, и можно вытащить на свет те же структуры (или наоборот: усмотреть китайца в языке любой нации).
— Правильно! — восклицает ушлый европеец. — Мы всегда говорили, что фонология на всех одна, и разделить любой слог на фонемы — это нам как...
Так — да не так. Да, современные китайцы достаточно прониклись фонологическими абстракциями (и конкретно-экономической необходимостью), чтобы возвести мощную систему транслитерации в ранг государственной политики. Теоретически, про иероглифы можно вообще забыть: набирать текст тупой латиницей, а правильные завитушки умный телефон подскажет. Хотя можно и неправильные: в старинных текстах писцы частенько допускали ляпы, вставляя вместо нужного знака сходный по озвучке, — и ничего, разбираемся. С другой стороны, и в европах буквами никто не разговаривает, а только буквосочетаниями; правила чтения далеко не всегда сводятся к простому перекодированию — и слово-иероглиф тут дело обыкновенное. Придуманные европейскими лингвистами артикуляции в жизни никто еще не наблюдал: ни у других — ни, тем более, у себя. Нет у нас в глазах рентгеновского аппарата. А если звуки слушать в наушниках через компьютер — ему вообще без разницы, где у кого кончик языка...
То есть, недостаточно научиться делить — надо еще и правильно складывать. Как минимум, объяснить, по какой причине одно звучание воспринимается целиком — а другое представляется последовательностью более дробных единиц. Чистой эмпирией тут не обойтись, и нет сейчас намерения вдаваться в подробности. Просто отметим на полях, что и в китайском языке далеко не всякая целостность представляется отдельным знаком, что иероглифы склонны склеиваться в устойчивые комбинации, произносимые как целое; в таких конструкциях легко проследить совершенно такие же роли, как и у европейских морфем или связок. Будем мы называть это словами, или еще как-то, — не суть важно. В любом языке выделение структурных единиц неоднозначно, и многое зависит от речевой ситуации и теоретического контекста.
Впечатлительный обыватель тут же смекнет: почему бы тогда и китайские слоги не объявить составными? Причем не тупо, по буквам транскрипции, — а по смыслу, по логике.
Мысль здравая. Сами китайцы тысячи лет этим занимаются. Задолго до знакомства с другими системами письма. Чтение знака в словарях указывают парой других знаков, один из которых в речи так же начинается, а другой на то же звучание закачивается. По-китайски это называется звук (声 shēng) и созвучие (韵 yùn) — в ученой литературе говорят про инициаль и финаль (последняя в китайской традиции ассоциируется с рифмой). Чуть позже (но тоже давно, примерно с VIII века) появляется представление о четырех способах соединения начала с концом (по науке: медиаль) — и возникает та самая таблица, которую всякий студент знает по учебникам вводного уровня. Европейцы, конечно бьют себя в грудь и разглагольствуют о всеобщем законе, о строении слога в космическом масштабе... Однако ничего кроме голой эмпирии за этим не стоит; и даже разделение согласных и гласных в европейской науке выглядит мутновато — на фоне, скажем, строгой фонетики арабского языка. Поэтому китайскую таблицу перенимают некритически — добавляя от себя про неполную и полную редукцию гласных, про слияние концевых призвуков...
Голове от этого не легче. Потому что привычка делить на гласные, согласные и не совсем согласные (полугласные) оставляет открытым принципиальный вопрос: китайскому слогу исконно китайская традиция приписывает еще и одну из возможных интонаций, набор которых различен в разных диалектах (и у азиатских соседей); пекинский стандарт (вместе с европейской транскрипцией) навязывает всем четыре основных варианта, плюс "нейтральный тон". Высокая европейская наука говорить об интонациях не желает: это, по их воззрениям, вне лингвистики — ближе к филологии... Никакой особой артикуляции приписать китайским тонам не удается; опять же, воткнуть их в определенное место слога трудно — из-за какой-то неакадемической размазанности... Но привычка ставить начальством гласные возобладала: под влиянием Европы новокитайская транскрипция призывает рисовать значки тонов только над гласными, или хотя бы над полугласными, — там, где гласная на письме вообще пропадает. Что есть полная противоположность традиционной интуиции, которая тоны называет уже знакомым термином 声 shēng, а гласные — словом 韵 yùn. Как будто интонацию определяет начало слога — но подхватывает рифма (кстати, китайские стихи обычно рифмуют без учета тонов). Или, иначе, интонирование слога есть отношение зачина к финали — характеристика медиали.
Каким бы наивным ни казалось это представление ученому лингвисту, в нем брезжит сермяжная истина. Однако совсем иного свойства: эмпирический и нормативный подходы в китайской фонологии следует дополнить теорией, выделить из исторических случайностей нечто недоступное непосредственному восприятию — и достаточно абстрактное, чтобы охватить широкий спектр частных фонологий (по фене: в синхроническом и диахроническом разрезе), а с другой стороны, предложить единый принцип конструирования фонологических норм. Такая формальная модель может быть совершенно не похожа на поверхностные наблюдения — но на то и формальность, чтобы разговаривать абстракциями.
Давайте придумаем язык, в котором все речения построены из слогов стандартной структуры: CVR — где каждая из компонент выбирается из своего набора фонем. Открывается слог некоторым переходным процессом (от тишины к звучанию); такие фонемы европейская наука традиционно называет согласными. Собственно звучание (опять же, по-европейски) мы именуем гласной. Наконец у слога общего вида есть "резонанс" (финаль) — особое звучание, функция которого состоит в озвучивании конца слога. Финаль, очевидно, не может быть согласной — поскольку это означало бы начало следующего слога. С другой стороны, это и не полноценная гласная — и петь ее нельзя: это означало бы введение особой согласной (шва) между V и R, — а структура слога в нашей модели этого никак не допускает. В запасе у нас есть еще одна фонологическая категория: полугласные. С некоторой степенью условности, будем считать R такой, промежуточной между гласными и согласными фонемой, так что конструкция VR образует что? — правильно, дифтонг. Причем активной в нем всегда будет гласная, а резонанс лишь подхватывает и уточняет интонацию.
Теперь допустим, что гласные и полугласные существуют в двух качественно различных вариантах (тонах): верхнем и нижнем. Где мы такое видели? Например, у соседей, в японском языке. Будем обозначать нижний тон строчной буквой, а верхний — прописной. Тогда комбинации VR, vR, vr и Vr дают четыре возможных интонации каждого слога — в полном соответствии с китайской традицией. Если бы у древних китайцев были компьютеры, они бы обозначили верхнее (более напряженное) звучание цифрой 1, а нижнее (более пустое) цифрой 0; тогда номера тонов (в двоичной системе) выглядели бы как 11, 01, 00, 10, — и порядок перечисления следовало бы перевернуть...
В нашей теории обозначение тонов оказывается предельно наглядным и не требует введения диакритики или приписывания цифирок: вместо mā, má, mă, mà — или ma1, ma2, ma3, ma4, — простые и понятные указания: mAA, maA, maa, mAa (предполагая, что гласные и полугласные могут быть обозначены одинаковыми символами — а в теории они все равно ссылаются на разные фонологические классы). Наивный студент и впечатлительный обыватель просто читают как написано — и не заморачиваются высокой наукой. И не надо им про пять звуковысотных уровней: все это от лукавого, и сильно зависит от речевого контекста, — тогда как различие верха и низа никуда не денется и четко уловимо на слух, даже с жутким акцентом.
Теперь давайте начистоту: будут гласные наверху звучать так же, как внизу? Не будут! Переключение регистров связано с перенастройкой всего голосового аппарата, и оказывается, что нижние позиции требуют, вообще говоря, большей открытости, а верхние — эффективно закрывают звучание. При традиционной записи тонов приходится доходить до таких различий сугубо эмпирически; в аналитической методике — все получается естественным путем, думать не о чем. Ряды "парных" гласных широко распространены; в русском языке соответствующие фонемы даже обозначаются разными буквами. Это ничем принципиально не отличается от других фонологических параллелей (звонкие и глухие согласные, наличие или отсутствие придыхания, краткость и долгота и т. д.). Достаточно отразить такие различия в каждом их фонологических классов (C, V, R); а если еще и подчеркнуть парность формальными (типографическими) средствами — простые смертные только спасибо скажут.
При таком раскладе, трудный вопрос о фонологии китайских тонов решается сам собой, и ничего не нужно специально изобретать: достаточно осознать качественные различия гласных и полугласных. Китайские тоны действительно оказываются фонологическим явлением, и это легко отобразить как в практической транскрипции, так и в ученых трудах.
Для полноты картины, следует также вспомнить о пресловутом "нейтральном" тоне и "редуцированных" слогах (типа zhi или shi). Такие слоги заведомо безударны — и мы тут же вспоминаем о классе полугласных: в нашей модели редукция означает выпадение гласной и переход к слогу вида CR — опять же, очень наглядно, и в буквальном понимании терминов. Более того, мы можем обсуждать разные типы редукции, в зависимости от качества финали и высотного положения "пропавшей" гласной. Потому что на самом деле никуда она не пропадает, а только перераспределяется между согласной и финалью — становится способом их склейки, медиалью. Можно было бы формально "восстановить" редуцированные гласные, рассматривая слоги типа CSR, где S ссылается на подмножество класса полугласных (варианты шва).
Чтобы теория стала предметной, остается привязать ее к имеющимся эмпирическим сведениям — предложить варианты строения абстрактных фонологических классов. Разумеется, тут не может быть простого и однозначного соответствия — хотя бы потому, что китайский язык по-разному звучит у разных носителей. Поскольку здесь меня больше интересуют основополагающие принципы — ограничимся очень приблизительными указаниями, а собственно научную модель следует развивать в подобающем контексте, на основе тщательных специальных исследований.
Формальная модель ничего не говорит о том, что традиционно считают китайскими медиалями — модификаторами соединения согласной и последующей гласной. Теоретически, ничто не мешает явным образом ввести медиаль в базовую структуру слога: CMVF. Тут свои плюсы и минусы. Но вспомним, что способ склейки существенно связан с изменением качества соединяемых фонем — и разные языки по-своему оценивают существенность таких модификаций. Например, мягкое соединение в русском языке предполагает одновременно и смягчение согласной, и более закрытое звучание гласной, — слитное звучание слога как целого (своего рода дифтонг — из согласной и гласной); а на письме это отражается лишь заменой "твердой" гласной на "мягкую". То есть, менталитет русскоговорящего — это ведущая роль гласных, голоса, — а согласные к ним прикладываются по обстоятельствам; из той же колоды — озвончение или оглушение согласных как свидетельство их "подвижности", или "вторичности". Напротив, во многих европейских языках качество согласных играет ведущую роль, а гласные либо вообще не меняются, либо зависят от позиции регулярным образом.
Первое (возможно, неполноценное) впечатление от китайского языка — доминирование согласных и зависимость качества гласной от предшествующей согласной и способа склейки. Тогда китайскую медиаль можно считать особым качеством согласной: есть "базовое", нейтральное звучание — и есть два фонологических варианта, твердое (медиаль u) и мягкое (медиаль i) чтение. В учебниках китайского языка это обстоятельство особо подчеркивают, указывая, что mian следует читать как (mi)an, а в русской транскрипции guo передают как го (подразумевая более напряженное звучание г). То же решение подсказывает и традиционная трактовка j q x как "смягченных" zh c s. Наконец, в класс согласных мы включаем также всевозможные варианты нетонических шва: твердый приступ ('), y, w, h. В итоге получаем компактную сводку согласных (инициалей) "мандариновой" фонологии:
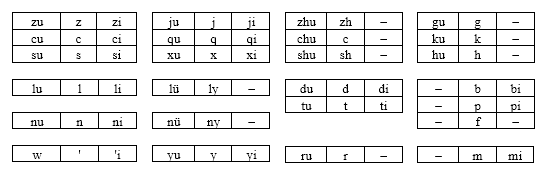
На практике zi очень похоже на j; аналогично, ci ~ q, si ~ x, — и дальше по второй и третьей колонкам. Однако в теории это разные фонемы — хотя бы функционально: одно дело, когда фонема сливается с последующей гласной (нулевая медиаль), а другое — когда она предпочитает держаться особняком. Разумеется, не все у современного китайца сочетается со всяким продолжением, а какие-то из прочерков в реальной жизни могут заполняться: например, возможны имитации инициалей bu pu fu mu в иностранных словах с пассивными дифтонгами. То есть, наша "периодическая система" (по обыкновению прочих теорий) выходит за рамки обыденности и предсказывает какие-то явления, которые могли бы наблюдаться при каких-то условиях. Понятно, что фонология согласных зависит от места и времени — и в других диалектах надо рисовать что-то еще. Но в качестве ориентировочной иллюстрации сгодится.
Классификация гласных сложнее. Здесь политика и вековые традиции совместными усилиями запутывают картину — и надо хорошо постараться, чтобы выявить формальное ядро. На студенческо-обывательском уровне, вероятно, хватило бы классической европейской (или японской) пятерки [a] [i] [u] [e] [o], с минимальным учетом специфики произношения. Добавляем тоновые варианты каждой фонемы — и можно разговаривать. Правда, в этой картине остается непонятной высокая избирательность соединения согласных с гласными, изобилие "дырок" в таблице слогов. Два направления мысли: с прицелом на универсалии будущего — и с учетом фонологической истории. Может китайская фонология развиваться и осваивать новые звучания? Безусловно. Однако развитие любых шкал идет от первобытного синкретизма к развитым структурам — и перескакивать через ступеньку общество может только под настойчивым внешним давлением; древность китайской нумерологии говорит в пользу самостоятельного освоения базовых структур в пределах пентатоники — и следует ожидать остаточных явлений, следов первичной фонологической дифференциации. Тут у нас как на ладони примеры арабского и персидского языков, с их триадами гласных, каждая из которых существует в "долгом" и "кратком" вариантах — которые, конечно же, никак не связаны с количественной оценкой: это другое качество (аналог абляута). Точно так же и в китайском языке возможно выделить три фонологических кластера (или, если угодно, "суперфонемы") A/a, I/i, U/u, где первые два достаточно компактны: кластер A охватывает звучания вроде русских [а] [э], английского [æ], немецкого [ä]; кластер I близок к турецкому ı — но захватывает и аналоги русских [и] [э]. Последний кластер — весьма широк, и здесь сильнее всего чувствуется зависимость от предшествующей согласной и типа резонанса. При нейтральной склейке, в зависимости от характера финали, получается либо нечто вроде французского [ə] (или чуть огубленное [ɔ]), либо достаточно определенное [э]; после твердых согласных появляется вариант [о]; мягкие согласные вытаскивают звучание [e]. Такая шкала возникает на ранних этапах в европейской музыке; ее хорошо известные свойства подсказывают, что кластер I должен быть во многом похож на кластер A — и воспринимается как его "октавное удвоение"; именно эта картина наблюдается в китайском языке. Разумеется, здесь мы иллюстрируем теорию лишь в самых общих чертах, временно "забывая" практически важные фонологические тонкости.
Класс резонансов предположительно представлен густым и тонким придыханиями (H и Y), губным призвуком W, и двумя носовым призвуками: передним N и задним NG; все эти финали также существуют в верхнем и нижнем вариантах. Трактовка NG и N как полугласных — совершенно естественна: все типичные черты налицо. В некоторых диалектах аналог NG имеется и среди согласных, наряду с аналогом N. Губной резонанс W и "мягкое" придыхание Y в китайском языке вполне подобны таким же полугласным других языков ([ў] [й]) — только после гласной A звучание W сдвигается к [о], а звучание Y иногда ближе к [ə]. Густое придыхание выглядит как "удлинение" предшествующей гласной — подобно произношению турецкого ğ. Поэтому в практической транскрипции допустимо отображать это эффективное "удвоение" как AA, EE, и т. д. — вместо AH, EH,... Впрочем, это последнее написание вполне согласуется с европейской системой транслитерации для арабского и персидского языков — и не вызывает внутреннего протеста. Возможно, какие-то эффекты (типа "столичной" эризации) я пока замалчиваю — но для иллюстративных целей перечисленного достаточно.
Польза от хорошей теории в том, что она даже в грубо формальном произношении дает нечто вполне узнаваемое носителями языка. Если, конечно, потрудиться переписать обычную транскрипцию в формальном ключе, разделяя согласные, гласные и резонансы. Некоторое усилие потребуется, чтобы составить интуитивное представление о кластерах гласных и финалей, — но этап привыкания к странным звучаниям присутствует в курсах любого языка, — а для китайского он еще и увязан с необходимостью усвоить семантику иероглифов (которую не передают никакие переводы), выработать языковое чутье. Разумеется, общепринятые правила никто переписывать в угоду теоретикам не будет. Однако в разговорах меж собой, исследуя диалекты и историю языка, мы уже способны отойти от голой эмпирии и наглого произвола — и чуточку облагородить лингвистическую науку даже в академически-рыночном понимании.
Естественный пример — история китайской поэзии. Там, где стихи предназначены только для глаз, — фонология иногда отходит на второй план. Но в тысячелетней китайской традиции красной нитью — связь стихов и музыки. И здесь чувство внутреннего строения слога оказывается весьма существенным — если не определяющим. Слушая новые песни, мы обращаем внимание на лингвистику слога целиком, без внутренних подразделений, — так что присущие нормативной речи тоновые различия в значительной мере смазываются, подчинены собственно музыкальному развитию. Иной раз иностранцу поначалу и в голову не приходит, что это по-китайски: вполне европейское звучание, сплошная глобализация... Собственно китайскую музыку — ни с чем не спутаешь, и произношение там иное. Логично предположить, что в глубокой древности поэты чувствовали внутреннее движение каждого слога, и подчеркивали его организацией прочих аспектов стиха. Слог еще не был нерасчленимой интонационной единицей, и его интонацию не просто воспроизводили в речи, но еще и опевали, встраивали в музыкальную ткань. Чем дальше мы продвигаемся в глубь веков, тем больше поэтических свидетельств внутренней динамики слога. Разумеется, включение стихосложения в образовательный минимум средневекового китайского чиновника не способствовало развитию поэтического чутья и внимательности к тонким фонологическим эффектам. Но поэзия по своей сути довольно архаична: в ней сохраняется то, что уже давно ушло из разговорного языка. Поэтому реконструкция фонологической основы древнекитайской поэзии позволяет делать выводы о языках дописьменной эпохи, о корнях языка как такового.
В качестве практического остатка — принципы перевода китайских стихов на другие (прежде всего европейские) языки. В Европе развитие фонологии пошло по пути освоения артикуляционных, а не интонационных градаций, — и здесь архаика внутреннего движения рано сменяется внешней комбинаторикой. Это одно из фундаментальнейших различий китайского и европейского менталитета. При переводе китайского стиха (особенно из ранних эпох) мы обязаны учитывать это обстоятельство — и передавать структуру китайского слога сочетанием слогов целевого языка: не слогом, а стопой. Только так мы сможем правильно воспроизвести характер восприятия, — не ограничиваясь голой сюжетностью или образным строем.
|