Заметки о поэтах и поэтике
Поэтическая речь отличается от обыденной даже произношением. Формальные примеры —
восстановление "немых" букв во французской поэзии, выпадение гласных в немецких
стихах, переогласовка в русских рифмах XIX века. Однако важнее всего — тонкие
изменения, вызванные более напряженной артикуляцией, подчеркиванием качественного
различия слогов. В русской поэтической речи акцентируется звучание
согласных — именно они отвечают за интонационную и ритмическую выразительность
стиха. Стечение согласных замедляет движение, накапливает напряжение;
последующая гласная либо сбрасывает его рывком, создавая эффект
ритмической пульсации, — либо подчиняется заданному темпу, делая стих
вязким, текучим — или наоборот, монолитным и упругим (в зависимости
от качества согласных).
Использование обыденного произношения в поэзии возможно лишь в изобразительных
целях, небольшими фрагментами, внутри поэтической интонации.
В поэзии графика играет очень важную, но все-таки подчиненную роль. Расположение
материала на странице призвано передать особенности поэтической интонации —
и само по себе лишено смысла. Конечно, современная поэзия большей частью приходит
к читателю через книгу. Но собственно поэзией становится она только при чтении,
проговаривании вслух или про себя. Можно представить себе особую разновидность
изобразительного искусства, сочетающую элементы графики и текста, — такое
искусство имеет право на самостоятельное существование, однако оно уже не
относится к поэзии как таковой.
Составление поэтических сборников — опасное дело. Даже если этим
занимается сам поэт. Отбор — как правило по таким признакам, которые
выходят за рамки искусства: конъюнктура, цензурные ограничения,
политические симпатии, влияние знакомых,... — вплоть до житейских
переживаний составителя. И у хороших поэтов бывают плохие книги.
Типичный пример — сборники Ахматовой, Цветаевой, Пастернака,
изданные в период реставрации капитализма после распада СССР.
Оголтелая пропаганда буржуазных "ценностей", поповской "духовности"
и ярого антикоммунизма — наложила отпечаток на всю литературу этого
времени. В результате, из всего написанного большими поэтами первой
половины века — выбраны самые серые творения, и за поэзию выдается
рядовое диссидентское виршеплетство. Сегодня попы с удовольствием цитируют
строки, продиктованные глупой религиозностью; политики и продажные
журналисты выпячивают любые замечания в адрес советской власти;
буржуазные идеологи коллекционируют образчики невежественного
философствования. А настоящий поэт — выше подобной грязи. Как бы ни
метался он по жизни, какие бы предрассудки ни разделял, — в своем
творчестве он руководим всеобщими закономерностями художественной
жизни своего времени, и лучшие образцы его творчества оказываются
значительнее его самого.
Гораздо интереснее литературные сборники, изданные при советской власти.
При всех официозных извращениях, духовная атмосфера того времени способствовала развитию точного
художественного чутья, умения выбирать действительно лучшее в
наследии поэтов прошлого. Разумеется, во множестве издавались стихи
"по случаю", капустные вирши на заданную тему. Но сохранялась —
только настоящая поэзия. И потому поэты выглядели именно поэтами,
а не придворными борзописцами (Случевский), не поставщиками
мещанского китча (Майков, Фет), не заунывными мистиками (Блок),
не фальшивыми страдальцами (Ахматова), не перепуганными эстетами
(Пастернак) и не холодными технарями (Брюсов). Рассеялась во времени
большая часть так называемой "пролетарской поэзии" — однако
великолепные находки ее представителей не остались незамеченными.
Наконец, пресловутые диссиденты-шестидесятники вошли в культуру новым поэтическим
направлением — а отнюдь не политическим течением.
Диссидентство их оставалось в тени, оно было тенью искусства, достоянием узкого круга, пижонской модой, —
но формальная противопоставленность слишком формализованному официальному искусству позволила им раскрыть наиболее сильные стороны своего художественного дара. Некоторым удавалось дорваться до "свободы": одни сбежали за границу, другие дотянули до капиталистической "перестройки". Втянулись в политику — и перестали быть поэтами, потеряли художественный вкус, превратились в посредственных стихотворцев,
плодящих невыразительные, и даже технически слабые сочинения. Нечто
похожее происходило с русскими поэтами-белоэмигрантами — например,
заграничный Бунин, постепенно деградировавший как художник в плену
слепой ненависти к социализму.
У Ахматовой: преобладание белого цвета.
Веселые и буйные боги античности — и убожество Христа. Поэзия,
воспитанная на античных образах всегда человечнее, разнообразнее,
духовно богаче; даже христианские идеи в ней приобретают красочную
драматичность и остроту. Напротив, христианская поэзия бледна и
худосочна, бездуховна и скучна.
Ахматова играет в чувства, представляет переживания — вызывая их
в себе искусственно, без внутренней связи и необходимости, без души.
Эксперимент на публику: дернем за ниточку и запишем, что получилось... Выхолощенная система Станиславского, понятая по-школьному, как совокупность технических приемов, трюкачество. Абстрактность таких переживаний, нарочитая отстраненность, — чувствуются театральной фальшью. При всем внешнем великолепии, сквозь оригинальность образов и стилевых решений просвечивает убогая бессодержательность, эффектно-пустое сценическое действие, изображение само по себе. Роботизированный комплекс для производства дырявых
кастрюль.
Но кое-где внутренняя холодность отражается и на технике. Например,
"Небывалая осень..." (1922), строка:
|
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник...
|
Сухое и официальное "таким, как" противоречит общему настрою стихотворения, разрушает предположительно яркий образ: автору все равно, ему важно лишь продемонстрировать изобретательность... Подчеркнуто размеренный, спокойно постоянный ритм — никак не вяжется с мятежом, с солнечным буйством... Судя по этой
строке, "столица" сдалась "мятежнику" без боя, и он спокойно
в нее "входит" — это зимнее солнце сквозь морозную дымку. Кто-то другой мог бы сказать иначе:
|
Было солнце — как будто ворвавшийся в город мятежник...
|
И сразу картина оживает, появляется ритмическая напряженность,
динамизм, единство события и переживания. Мы уже не любуемся абстрактным сравнением — а реально получаем солнечный удар.
В том же стихотворении, чуть выше, — пример небрежного отношения к
звучанию стиха:
|
А куда провалились студеные, влажные дни?
|
Игра с просторечием в поэзии предъявляет повышенные требования к технической точности — а здесь
такое тяжелое стечение одинаковых звукосочетаний: 'лили', 'сь ст'...
Чтобы два 'ли' в слове 'провалились' не вызывали чувства унылого
шлепанья по одному и тому же месту — надо сделать эти слоги
качественно различными; формальной ударности одного и безударности
другого в данном случае недостаточно. Действительно, в контексте этой
фразы интонационные акценты падают на слова 'куда' и 'студеные',
а слово 'провалились' по языковой логике оказывается относительно безударным. Только
школьное скандирование слогов, абстрактно подчеркивающее стихотворный
размер, может восстановить якобы присутствующее ударение. Два 'ли' могли бы стать
качественно различными, если бы прямо за ними следовала сильная цезура, — или
интонационно ударный слог — или хотя бы просто краткий слог,
предшествующий смысловому ударению. Но здесь-то нет ничего подобного! —
никакой интонационной остановки, а следующий слог безударный и
долгий (благодаря стечению согласных в его начале). Создается
интонационный эффект, аналогичный синкопе в музыке, — однако последующее голосоведение этой идее никоим образом не соответствует: языковая конструкция не вписывается ни в ритм, ни в интонацию, остается чужеродным телом, — неряшливостью стиха.
Другой пример: одна из самых поэтичных ахматовских миниатюр,
"Наяву" (1946), заканчивается строками:
И время прочь, и пространство прочь...
Но и ты мне не можешь помочь.
|
В авторской редакции, последняя строка сохраняет ритмический
рисунок, выдерживаемый на протяжении всего стихотворения:
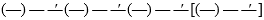
Стечение двух слогов 'не' в середине строки требует цезуры между ними — это делает последнюю строку еще более похожей на все остальные, также с центральной цезурой. Однако при этом реальная интонация не соответствует записи: "не можешь помочь" отделено от "и ты мне" некоторой остановкой, как бы запинкой, размышлением. Такая интонация предполагает соответствующее синтаксическое оформление: место цезуры следовало бы обозначить. Например, тире. Или напрашивается переход к акцентной записи:
И время
прочь,
и пространство
прочь...
Но и ты мне
не можешь
помочь.
|
Авторское же написание навязывает бесцезурное чтение, с грубо лязгающим 'нене' в середине строки.
Отсутствие цезуры в последней строке имеет свою логику: концовка становится более выразительной, появляется ощущение окончательности и бесповоротности, подведения последней черты. Точное выражение такой идеи может быть отмечено качественным изменением ритмики:
|
Но и ты не можешь мне помочь.
|
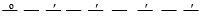
Перетекание анапест-ямбической структуры в хорей здесь происходит довольно естественно, благодаря облегченному ударению на первой стопе; перестановка слов убирает стечение двух 'не' — и превращает строку в монолитное целое. Становится ясно, что все уже сказано, дальше пути нет.
Похожая ситуация в стихотворении "О если б все, кто помощи духовной..." (1961):
|
Так, что даже это мне не трудно.
|
с ритмическим рисунком
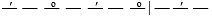
Однако здесь цезура, разделяющая два 'не', естественно возникает
из-за логического ударения на слове "это"; следующее за ним слово
"мне" оказывается в относительно слабой позиции — интонационно присоединяется к слову "это". Особых синтаксических указаний тут не
требуется.
Пример нарушения артикуляционного строя стиха дан Б. Эйхенбаумом:
Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На душистой сапфирной парче.
|
Последняя строка неудачна, нелогична с точки зрения артикуляции. Это могло бы стать классическим примером глубокой рифмы: "трех тысяч свечей" — "сапфирной парче". Однако сочетания 'пф' и 'рн' противоречат
аранжировке предыдущих строк на 'пл' и 'рк'; очень грубо звучит и
стечение 'рн' и 'рч' внутри строки.
Кроме того, "душистой" тут уместно разве что по смыслу — а в звучании последовательность ударных гласных
'и'–'и'–'е' очень уж выбивается из общей "тональности" четверостишия; интонационные ударения только усугубляют это противоречие.
Разумеется, подобные тонкости опираются больше на языковое чутье,
связаны с индивидуальным строем речи — а науки о речевом колорите,
по сути дела, еще нет. Язык не подчиняется жестким канонам, он плавно
перетекает от одного диалекта к другому, позволяя каждому человеку
по-своему развернуть иерархию языка — найти только ему присущие интонации, синтаксические построения, лексические нормы. В поэзии подобная индивидуализация особенно заметна (см., например,
замечательную работу Брюсова о пушкинском языке).
Возможно, сочетание нарочитой корявости и высокомерной манерности кому-то понравиться, и в этом найдут прелесть сугубо ахматовского письма. Как говорится, дурной стиль — это таки стиль. Лучше, чем ничего. И критика неуместна.
Однако художественное произведение — не принадлежит автору.
Каждый вправе опираться при восприятии на свой собственный языковой
опыт, возражая автору там, где появляются разночтения. Более того,
каждый вправе переделывать вещь как угодно — в зависимости от личных
потребностей. Напечатанное стихотворение — нечто вроде нотной записи в
музыке, фиксирующей лишь общее интонационное движение, с некоторыми
штрихами и оттенками, — мастерство исполнителя как раз и состоит в
умении добавить к музыке нечто сверх обозначенного в нотном тексте,
вплоть до собственных аранжировок, с изменением интонаций и отдельных
нот.
Критики любят выискивать в стихах намеки на события эпохи, на
обстоятельства личной жизни автора, на его отношения с другими людьми
и пр., и пр. Потом следует изумленное восхищение гением поэта, так
органически вплетающего всю сложность мира в живую ткань своего
бессмертного творения...
Да, в стихах отражается все, что окружает поэта, что волнует его
современников и его самого. Но было бы странно полагать, что поэт
сознательно стремится к подобной хроникальности, намеренно рассыпает
намеки и пророчества. Философствование — не дело поэта. Это прекрасно
понимал Пушкин, возражая в середине 1820-х против художественного
морализаторства. Точно так же, поэзия не имеет права скатываться в
голую изобразительность, зарисовки с натуры. Стихи на злобу дня, как
правило, тускнеют на следующий же день; они могут быть великолепны,
исполнены истинного мастерства — но только в жанре капустника.
Каким же образом получается настоящая поэзия? Как сливаются
воедино изобразительность и выразительность, вечность и хроника,
личность и мир? А дело всего лишь в том, что поэт — человек. Его
мысли, переживания, стремления, идеалы — не прихоть творческой
натуры, не произвол абстрактного "Я"; все в человеческой душе
восходит к обыденной жизни, к повседневной деятельности людей.
Замыслы, планы, наброски — вся предварительная работа литератора
полностью подчинена его общественному бытию; здесь вполне возможны
(и вполне допустимы) сознательное философствование, созерцательные
эскизы, технические эксперименты. Однако само по себе это не
побуждает к творчеству, не определяет его. Основная черта всякого истинно художественного произведения — слитность, непосредственность, — порывность.
Нельзя достичь подобного синкретизма намеренно, аналитически, — или сконструировать ее. Техницизм, умозрительность,
морализаторство, претенциозность — бросаются в глаза. Не менее
губителен для искусства отказ от мышления вообще: что может быть
печальней бездуховности? Поэт обязан жить, мыслить, действовать.
Но поэтом он становится — когда его жизнь, его мысли и его дела
переплавились в нем в нечто единое, стали внутренним движением его
души. Стихи рождаются из этой душевной цельности, подчиняются
неосознаваемым велениям художественного чутья. Пока поэт творит —
он не знает, почему он должен делать это именно так, что заставляет
его иной раз идти против правил, установленных им же самим. Но
поскольку душа поэта вбирает в себя весь мир — этот мир выражает себя
в стихах, наполняет их вечной содержательностью. Не поэт показывает,
возвещает или пророчит — наоборот, через искусство открывают себя,
входят в сознание людей отдельные черты их природного и общественного
бытия. Гениальность поэта, следовательно, — в его человечности,
в том, насколько его творческое "Я" представляет всеобщее в человеке,
насколько его судьба есть зеркало многих и многих судеб.
Почему тысячи людей пришли к умирающему Пушкину? К поэту,
которого отнюдь не жаловал свет, которого ругали критики и попы,
которого презирало офицерье и на которого служилое сословие взирало
с тупым недоумением, — и который был просто неизвестен широким
народным массам? Трудно поверить, что столичный обыватель вдруг
переродился, прочувствовав тяжесть утраты... Скорее всего, толпу
зевак собирало обыкновенное любопытство, подогреваемое скандальными
сплетнями, стремление во что бы то ни стало успеть к новейшему
салонному деликатесу, не отстать от других. Настоящее уважение —
не в демонстративном участии, а в дружеском общении, переходящем и за
смертную грань. Полтора столетия спустя — толпы "поклонников"
собираются на "пушкинские праздники", пошлость которых снова убила бы
Пушкина, будь он еще жив. Пушкина читают — потому что так положено,
потому что его проходят "по программе", потому что на нем можно
сделать диссертацию или заработать деньги; наконец, потому что
больше ничего не знают. Дешевый авторитет можно заработать у соседей
или сослуживцев, изображая из себя знатока и ценителя пушкинской
поэзии, демонстрируя осведомленность в его биографии и пересказывая
старые сплетни под видом новейших открытий. Мало кто способен увидеть
в Пушкине обычного человека, поэта — одного из многих, достойных
уважения и любви.
Поэты умирают не случайно. Пушкин погиб не из-за жены, Высоцкий —
не просто допился до дна. Поэт уходит из жизни, когда он чувствует,
что стал в ней чужим. Смерть поэта — явление смены эпох.
В начале XX века поэты кончали самоубийством. Потом это стало
как-то не принято; а во времена Пушкина и Лермонтова — просто
немыслимо.
Романтическое направление в литературе — необходимая предпосылка
реализма. Анализ — предшествует синтезу; чтобы создать мир насыщенных
образов, надо пройти через идеализм абстракций, довести до предела
каждую черту бытия — и только так сделать ее своей.
Почему Пушкин так и не опубликовал "Каменного гостя"? Не потому ли, что
хорошо осознавал его несвоевременность? "Каменный гость", похоже, морально устарел задолго до последних штрихов; для Пушкина, чувствующего незаметнейшие
движения будущего в современности, — это лишь поэтическое упражнение,
способ избавиться от давнего замысла, освободить себя для новых идей.
Никак не вписывается эта миниатюра в победоносную буржуазную действительность — и потому
особенно трудна для современного прочтения: слишком много нужно додумывать, переосмысливать, притягивать со стороны. Пьеса предельно
проста, гениальна в своей простоте. Однако именно это мешает ей
ожить, оставляет лишь частью пушкинского наследия, памятником прошлых
веков.
У Пушкина — как, впрочем, и у других поэтов-мужчин, — нет ни
одного настоящего женского образа. Женщины в мужской поэзии всегда
абстрактны, романтизированы — о них часто вообще избегают говорить.
В конце концов оказывается, что женские образы — лишь формальный
носитель каких-то отнюдь не женских качеств или идей, а женская
психология сводится, по преимуществу, к досужим банальностям. Конечно,
мужчине свойственно романтическое отношение к женщине, восхищение
ее красотой, изумление ее порывам, умиление ее слезами. Однако тайны
женской души, пресловутая женская логика — всегда оставались выше
мужского понимания, вызывая либо надменное презрение к женскому
"несовершенству" — либо откровенную растерянность перед пришельцами
других миров...
Большинство литераторов-женщин, воспитанных на традиционно
мужской беллетристике, не выходят за рамки мужских представлений
о себе. Входя в искусство, женщины (неосознанно) стремятся выглядеть
так, как хотелось бы большинству предполагаемых читателей (мужчин).
Вполне понятное кокетство, ставшее старинной нормой в отношениях
полов. Попытки освободиться от мужского влияния — обычно приводят
к сухим, академичным женским персонажам, от которых частенько самих
женщин тошнит. Другая крайность — превознесение женской физиологии,
диктат секса и материнства, при котором снова теряется собственно
человеческое в женщине, ее необходимость в единстве материального
бытия.
Показать женщину как человека — значит увидеть особые, женские
пути в решении всеобщих, человеческих проблем; женщина может все —
но может по-своему: не хуже, и не лучше мужчин, — а просто по-другому.
Пустота женских образов в искусстве проистекает, с одной стороны, от надуманного выделения особых "женских" проблем, а с другой — от попыток замазать всякие различия
в образе действия (и мышления) мужчин и женщин. Возможно, когда-то
различия полов будут действительно сведены на нет — и тогда исчезнет, в частности, потребность искусства в женских образах. Однако время это пока
весьма и весьма далеко: мир все еще населен людьми разных полов,
общественное положение их различно, — что порождает
интереснейшие повороты во взаимоотношениях людей.
Великолепный образец того, как может литература представить
женщину в ее человеческом своеобразии — драма Леси Украинки.
Достаточно сопоставить ее "Каменного хозяина" с "Каменным гостем"
Пушкина: пустота образа Анны в пушкинской трагедии просто бросается
в глаза. Женские образы Леси Украинки предельно человечны, органичны,
последовательны и своеобразны: Кассандра, Мавка, Присцилла... Это
прежде всего люди — но люди особого склада, вызванного их положением
в обществе, в истории, в мире. Они ведут себя по-женски — но логика
их поведения есть всеобщий закон бытия. Удивительное сочетание
романтической сказки — и жесткого реализма.
Пожалуй, единственное приближение к образу женщины у Пушкина —
его знаменитая Татьяна. Однако и здесь — скорее намек, набросок,
идея для дальнейшей разработки. Скорее всего, Пушкин сам осознавал
бедность женских фигур в его поэзии; однако он творение эпохи —
а время для полнокровного отражения женщины в литературе еще не
наступило. Капитализм, формально уравнивающий всех людей в их праве
на сытость или нищету, только начинал свое шествие по планете; лишь
в конце XIX века сословные границы отступили на второй план. И тогда
литература наконец обрела своих женщин — и тем самым обогатила и
образы мужчин. Большей частью, впрочем, это коснулось прозы —
поэзия же до сих пор остается преимущественно однополой, несмотря на
показную эмансипированность поэтов всех полов.
Поэзия — всегда непрофессиональна. Литератор иногда быстрее в
поиске слов. Но это — ремесло. Печально, когда оно лишено поэзии.
Лирика Маяковского насквозь разумна, "логична". Ни одной
слепой метафоры. Однако человек, в конечном счете, есть не что иное
как одушевленная мысль. А посему именно такая поэзия утверждает в человеке
человека — в отличие от бессловесной твари.
Стихи, извините, это не просто рифмованное и ритмизованное изложение
теоретической концепции. Стихи — способ бытия. Поэтому должны
жить — не мыслью, не образом, — но синтезом их в
чем-то таком, что выше автора, хотя бы самую малость.
Искусство есть прежде всего образ и его движение в себе.
Тогда образ = мысль.
Стихи должны быть насквозь полифоничны: многоголосие, расчет на нескольких
чтецов. Аккорды. Остинатность. Если исполнитель один —
скрытое голосоведение:
— особая линия ударных слогов;
— созвучия по концам строк — аккордовая рифма;
— начало строки как экспозиция темы;
— внутренняя рифма и ассонансы;
— ритмическая организация, подчеркивание голосов;
— качество звука как способ формирования созвучий.
Но главное: стихи должны звучать. Письменная поэзия —
литературный казус. Вообще, всякое искусство активно, оно проявляется
в действии и гибнет в толстых фолиантах.
А кто хочет попроще — пусть играют в преферанс. Сойдет за
предварительную ступень.
Простейший, но весьма эффективный прием: вместо слова — первая ассоциация
— по контексту, по настроению. Потом разработка, связывание в логику.
Развернутый перевод — в духе Эзры Паунда — плохо. Нужны именно
абстракции, чтобы вернуться к истоку, к нерасчлененной
образности. Длинный комментарий — жесткие рамки мысли. А каждое
слово европейских языков не беднее идеографичностью и пиктографичностью, чем
любой иероглиф. Надо только уметь усматривать непосредственное в словах.
Не надо быть рабом свободного стиха.
Поэт — если это поэт настоящий — недолго живет. Он переживает самого себя.
Ибо поэт — чуток. Но жизненный опыт делает мудрее. А поэзия не
должна быть мудрой — поэзия должна мечтать.
Организация стиха — помогает организовать мысль.
Нет, не могу понять поэтов, запирающих себя в структурности
прошлого века! Наше время — наши слова для наших, хотя и
вечных тем.
Поэтическое время — отлично от времени обыденного. Рассудок
может говорить о прошлом или будущем — а чувство всегда здесь
и сейчас. Поэтому в поэзии вполне возможно смешение времен,
которое неестественно смотрелось бы в прозе, а тем более
в публицистике, или в науке. Например:
Но будет — влажная рука
По чистой грани —
И шелест падшего песка
Уже не ранит.
|
Или:
В былые времена,
Давным-давно, —
Помнишь? — плывет луна
В небе ночном...
|
В последнем примере — редакторская замена при публикации: "плыла" вместо "плывет".
С точки зрения обыденного языка — вполне логично, и даже, казалось бы,
добавляет некоторую игру звуками... Но с точки зрения поэтики замена
совершенно недопустима, поскольку теряется эффект мгновенного переноса
в прошлое, бытия в нем, смещения временных пластов... — и остается
отстраненное размышление. Все дело-то как раз в том, что прошлое
присутствует здесь и сейчас — и только потому становится поэзией,
а не научным трактатом.
Искусство поэта — всегда искусство актера. Поэт не говорит от своего
имени, он перевоплощается в лирического героя — разного в различных
стихах. Именно поэтому лирическая поэзия может создавать типы. Однако
для того, чтобы герой ожил, нужна подлинность переживания. И поэт
действительно переживает все, что говорит, — хотя бы это
и не могло случиться в его обыденной жизни никогда.
Нынешние коммерсанты от искусства любят цитировать Пушкина:
|
...Но можно рукопись продать.
|
Однако обратите внимание: поэт продает всего лишь рукопись, продукт чисто
механического переписывания — но отнюдь не поэзию, не вдохновение.
Стихи остаются, и могут найти иные пути к читателю. В конце концов, можно
те же стихи записать еще раз — и продать еще одну рукопись.
Если же поэт станет заботиться о тиражах и рейтингах — поэзии конец.
Как в математике, где бесконечности могут быть несравнимы и каждая из них —
прежде всего, бесконечность, — так, возможно, и великие люди всех времен —
это высшие достижения человеческой культуры, независимо от того, каков был их вклад
в человеческую историю. Так, читая В. А. Жуковского, можно подумать, что во многом
уступает он А. С. Пушкину, что действительно ученик превзошел учителя...
Но стоит лишь прикоснуться к волшебству "Ундины" — и становится ясно, что
оба поэта равны перед лицом человечества, что оба они — вершины, которых
можно коснуться, но нельзя превзойти.
Стихи скорее дополняют биографию поэта, нежели следуют ей. Намек на действительные
обстоятельства — побочный эффект, связанный именно с дополнительностью:
одну и ту же вещь можно определить и через то, чем она является, и через то,
чем она не является.
В сетевой поэзия начала XXI века была Рита Семенова —
персонаж, выдуманный неким российским (скорее всего, питерским) интеллектуалом (или группой).
Это новый виток в развитии русского реалистического искусства. Мы знаем, что XIX век заканчивался
эпохой критического реализма; XX век в СССР прошел под знаком социалистического реализма
(под занавес, впрочем, выродившегося в реализм маразматический);
новый век начинается великолепием "саркастического" реализма, ассимилирующего
пошлые реалии неокапитализма путем погружения их в контекст глубокой иронии,
устраняющего их мрачную серьезность. Рита как бы рассматривает современный быт
через призму классической культуры — и тем самым выделяет в его серости
нечто яркое, цветное.
Эволюция реализма связана с изменением отношения к реальности: поначалу —
отрицание прошлого, потом — мечта о будущем; и вот, разочарование, сомнение в самой возможности будущего. Естественная реакция общества на
реставрацию капитализма, откат в прошлое. Даже когда знаешь, что таков общий закон развития,
что новое часто возникает на обломках старого, — остается в душе осадок бесконечной
грусти. Однако само сохранение человеческой культурности в обстановке всеобщего
одичания вселяет надежду.
Моностих — не просто ритмизованная речь. Чтобы стать законченным произведением,
ему нужна целостность образа, интонационная самодостаточность. Знаменитое брюсовское
|
О, закрой свои бледные ноги!
|
создает свой собственный мир, который не нуждается в дополнительных деталях —
читателю достаточно материала, чтобы представить ситуацию в целом. С тем же ритмом,
фразы
|
Каждый день я хожу на работу...
|
или
|
Мы живем у железной дороги...
|
до моностиха не дотягивают, им требуется продолжение; например
( Карина Красная):
Мы живем у железной дороги,
рядом стаи бродячих собак.
Там у многих отрезаны ноги,
и с хвостами чего-то не так.
|
|
Смотри, как все загюлюмсели...
|
даже вне контекста воспринимается как моностих, ясно указывающий на нечто связанное с
турецкой улыбкой; дальнейшее развитие может приводить к разным воображаемым ситуациям —
в зависимости от жизненного опыта читателя, — однако все это вырастает из одной строки.
Бывают строки, которые при всей своей завершенности, ритмичности и образности не становятся
моностихами потому, что они вообще выпадают из сферы поэзии. Например:
|
В каждой комнате есть черное окно.
|
Формально хорей, по образному строю похоже ни стихи... Но по самому строению фразы,
по внутренней динамике — это афоризм в прозе, а не моностих. В каком-то контексте можно
превратить его в строку стихотворения, но тогда иерархия смыслов превратится в
одну из возможных интерпретаций, нечто неизбежно вторичное.
Стихи Ивана Бунина — великолепная иллюстрация того факта, что совершенное владение
техникой версификации не приводит само по себе к поэзии. Взять любое из бунинских
стихотворений — по видимости, это высокая поэзия: ясность, стройность, живописность...
Однако более продолжительное знакомство обнаруживает полную безóбразность этих
стихов, отсутствие собственно художественности. Они, в лучшем случае, годятся для семейного альбома —
тогда как всеобщее, человечески-культурное значение их равно нулю.
Грош цена тому поэту, у которого нет ничего кроме поэзии. Впрочем, поэзии у него тоже нет.
Хорошо быть разнообразным! Каждому — что-то, да понравится.
Плохо быть разнообразным. Каждому не понравится бóльшая часть.
Не бывает национальных поэтов. Поэзия — способ существования Вселенной.
Часто встречается пренебрежительное отношение к стихам для детей —
дескать, это не поэзия (или, по крайней мере, не совсем поэзия), нечто слишком примитивное и
не заслуживающее внимания господ-эстетов. При этом забывают, что форма в искусстве неотделима от
содержания, и основа поэзии — верная интонация, а не технические навороты. По меньшей мере странно
было бы слышать по-ахматовски заламывающего лапы ежика, или пионера Петю, косящего под Мандельштама.
Конечно, такие стилевые противоречия вполне уместны там, где требуется комический эффект.
Но строй собственно детского стихотворения должен быть иным, отличным от образа речи юноши,
или седого старца, — иначе это не будет правдой, и следовательно, не будет искусством.
Другая крайность — чрезмерное опрощение, сюсюкание, заигрывание с детьми.
По сути, такое "творчество" есть форма неуважения к ребенку, отказ признавать его человеком — равным кому угодно другому.
Нарочито заниженная "поэзия" столь же формальна, как и эстетствующее стихоплетство, и так же страдает бессодержательностью,
духовной пустотой.
Всякое искусство — всерьез, оно говорит о всеобщем — но каждому своим языком.
Одни поэты находят сложность в простом, другие — умеют просто выразить сложное.
Сложность и простота всегда рядом в искусстве, одно без другого не существует.
И оказывается, что стихи для детей — если это настоящая поэзия — интересны и
взрослым, а вполне взрослое стихотворение совсем не испугает ребенка, если
оно прозвучало уместно и с правильной интонацией. Одно перетекает в другое,
и все это — грани поэзии в целом, одно и то же в разных представлениях.
Настоящая поэзия едина и не признает разделения по возрасту, полу или социальному происхождению.
Именно потому молодой человек вполне может говорить от лица старика, а пожилой — писать
внешне примитивные "детские" стихи. Это одно из следствий всеобщности искусства.
Разумеется, вышесказанное относится не только к "детской" поэзии. Существуют многочисленные
"низкие" жанры, в которых, тем не менее, создаются настоящие шедевры, ничем не уступающие
творениям "высокого" стиля. Искусство есть и в текстах на музыку (lyrics), в бардовской и
блатной песне, в юмористических куплетах, и даже в рекламе. Все, что делается по законам искусства, — остается достоянием культуры, и будет с людьми всегда.
Литература как общественное явление. Разнообразие форм. Порой совершенно несовместимых.
Далеко не всегда эти формы имеют отношение к литературе как области искусства.
Противоположности: графоманство — и профессиональная критика. Как положено любым противоположностям,
они мало чем друг от друга отличаются. Занимаются своим ремеслом и те, и другие, отнюдь не ради поиска новых путей в культуре,
а исключительно из личных интересов: графоману важен сам процесс накопления культурного хлама;
критик выполняет свои обязанности штатного пропагандиста, замусоривая массовое сознание из карьерных соображений.
Графоман претендует на литературную славу — но известен лишь узкому кругу случайных читателей;
как правило, графоманы образуют разного рода кружки, в которых высокая самооценка участников
поддерживается взаимными комплиментами. Точно так же, профессиональный критик существует
в застойном болоте какого-нибудь толстого журнала, и вся его значительность — только внутри цеха
подобных же ремесленников, а живое искусство к подобным упражнениям в словесности остается безразличным.
Критик, подобно графоману, считает себя знатоком в своей области и склонен к безапелляционным заявлениям,
выдавая ограниченность частного мнения за истину во всей ее всеобщности. Разумеется, подобная склонность
не может произрастать иначе как на почве глубокого невежества: графоману учиться просто лень,
он занят писательством и продвижением своих произведений — критиками же назначаются как правило
люди узкого кругозора, они усаживаются в редакторское кресло по протекции прямо с институтской скамьи
и не знают практически ничего о реалиях жизни и литературы. Графоман считает свой метод писательства
несомненно правильным; критик точно так же верит в априорную правильность когда-то заученных
формулировок и абстрактных принципов. Графоман не интересуется литературой, других он рассматривает
как средство и читает чужие творения редко и поверхностно — как правило, внутри своего кружка.
Профессионального критика литература интересует еще меньше: ему важно продемонстрировать свое умение высказаться
по поводу и остаться в русле официальной идеологии; соответственно, все "свои" авторы своего круга получают
положенную по штату рекламу — а все остальные записываются в графоманы, иногда со снисходительным допущением,
что отдельные места могут быть у них недурны...
Так смыкаются графоманская распущенность и профессиональный кретинизм.
Моностих подобен функции в теории комплексных чисел: он допускает множество аналитических продолжений.
Даже маленький человек — человек, а не говно в проруби.
Именно это — по-настоящему коммунистический подход к поэзии.
Был Окуджава с его "муравьем", над которым только смеяться, а на публику лицемерно сочувствовать...
Потом — плеяда бардов, вокруг той же идеи.
Советская власть (в лице лучших своих представителей) такую литературу не жаловала: интуитивно чувствовали врага.
Так оно и оказалось: полезло наружу, всплыло грязной пеной после переворота, в конце 1980-х.
Нажившиеся на антикоммунизме "диссиденты" и "барды" уселись на шею "муравьям", подстилкой под буржуйскую задницу. В этом и состоит двойственная природа вшивой интеллигенции: да, мы готовы на любую низость за буржуйские деньги, — но мы неизмеримо выше всякого быдла, и пусть там, снизу, продолжают благоговеть... Но народ почему-то не проникся — и забытые кумиры быстро скатились в коммерцию и шутовство.
Нет национальной поэзии. Есть просто поэзия.
Национальный — значит, уже не поэт.
Поэзия не то, что говорят, а то, о чем умалчивают.
В этом смысле моностих — поэтический абсолют, поэтичность в чистом виде.
Краткость (включая отсутствие названия) никоим образом не относится к определяющим особенностям моностиха.
Например, Jean Chrysostome Larcher, Paris en été :
De la pluie et du vent, du vent et de la pluie.
По этому поводу француз итальянского происхождения Antoine de Rivarol язвил: "Неплохо! Но длинноты таки есть..."
Полное непонимание сути дела. Моностих — поэтический жанр. Он следует особой, поэтической стилистике — отсюда его образность, лексическо-фонетическая и ритмическая организация.
Изменение в любом из этих элементов, в принципе, может породить нечто по-своему интересное — но совсем другое; и не факт, что это будет из области поэзии.
Стихи точны, там нет случайностей. Если нечто идет после чего-то — оно никак не может идти перед ним.
Если какие-то из элементов стиха повторяются — в этом суть происходящего.
Пережиток доисторической первобытности в литературе нового времени — многословие, смакование подробностей...
Писатель — пишет романы! а кто пробавляется рассказиками — всего лишь новеллист.
Поэт без поэм — в лучшем случае, полуфабрикат.
Художник — просто обязан явить миру нечто эпическое.
XX век основательно размыл предрассудки, но скептическое отношение к моностиху не истребил.
Воспринимают его как шутку, игру, академическую неприличность.
Или отсылают в афористику — которая столь же необоснованно отождествляется с хлесткой фразой, показным остроумием, салонной находчивостью.
Нечто похожее в средневековой персидской поэзии: рубаи как простонародный жанр, недостойный подлинного поэта...
Краткость, как мы знаем, сестра таланта.
Но для искусства — нужен талант, а не его сестра.
Byron, The Corsair, VIII :
Such hath it been — shall be — beneath the Sun
The many still must labour for the one!
'Tis Nature's doom — but let the wretch who toils,
Accuse not — hate not — him who wears the spoils.
Oh! if he knew the weight of splendid chains,
How light the balance of his humbler pains!
|
В классическом переводе (Оношкович-Яцына):
Так было, будет впредь: как крот слепа,
На одного работает толпа.
Но пусть не судит тот, чья доля — труд,
Того, к кому добычи все текут:
Когда б он знад, как этот крест тяжел,
Он горести свои бы предпочел.
|
Вот за это я не люблю Байрона. Можно сколько угодно оправдывать его духом времени —
это не отменяет надменную дикость, барскую спесь. Изображая из себя революционера, Байрон просто подставляет победившего буржуа на место "потомственного" аристократа, — но и тот, и другой считаются законными вершителями судеб.
Это ничем не отличается от религиозного дурмана.
Любите ваших господ — им тяжелее, чем вам!
Вряд ли в это поверит рабочий после 12–14 часов смены, за которые он может не получить даже грошовую плату, если надсмотрщик навесит штраф.
Дело, конечно, не в идеологии как таковой. А в том, что политика убивает поэзию.
Остается умелая версификация, ремесло — видимость искусства.
И это тоже часть буржуазной пропаганды: выдать видимость за действительность,
будто нет в мире ничего, кроме иллюзий, и не стоит искать справедливости...
Поверхностный взгляд может усмотреть якобы принципиальное отличие эпической поэзии от лирической; «продвинутые» читатели обнаружат и различия технического порядка. Поэма, по видимости, ближе к прозе — и мы большей частью следим за движением сюжета, лишь изредка обращая внимание на разного рода красивости. Если на то пошло, лирические отступления в прозе тоже сплошь и рядом, — да и стилистическими закавыками прозаик иной раз побаловаться не прочь. Заранее предполагается, что в эпической поэзии собственно поэтичность — дело десятое сугубо локальное явление, элемент формы...
Но поэма — не просто рифмованная (или ритмизованная) проза. Для нее важно не рассказать — а передать особое, поэтическое отношение к миру. В лирическое поэзии В лирическое поэзии оно раскрывается как личное, как настроение; эпичность означает переход от единичного к коллективному субъекту — и субъективные переживания становятся фактами истории. Это уже не настроение, а душевный строй, менталитет. Поэт вправе говорить от лица коллективного субъекта, или от имени лирического героя, или переходить с уровня на уровень в рамках одного произведения... В каждом случае развертывается своя иерархия поэтики. Если читатель не всегда может уследить за такими превращениями — это беда общественного строя, все еще далекого от разумности.
Поэзия рождается вместе с человеком.
Но человек рождается много позже своего биологического тела — до поэзии ему расти и расти. Далеко не все дорастают.
Высоцкий — великий поэт. Он весь — в творчестве. И эта увлеченность гения позволяет ему открывать истинные шедевры. Однако Высоцкий — всего лишь поэт, и в этом его беда, его трагедия. Да, он умеет любую грязь сделать поэзией; но достойна ли этого грязь? и время ли увлекаться грязью? Вспоминается сказка о Мидасе.
За поэзией не остается духа, она бессмысленна, она сама по себе, ни для чего. В итоге — душевная пустота, распад личности, и желание смерти. Такова участь многих. Настоящему художнику не нашлось в мире настоящего дела.
Поэт — поэт, когда он поэт.
Во всем остальном — все остальное.
Поэзию надо читать в оригинале. Перевести нельзя — иначе зачем было бы писать, например, по-китайски? Другие языки — другая поэзия. Перекличка времен и народов.
Поэзия не сводится к языку — однако она невозможна вне языка.
Поэзия в переводе — утрачивает образ, превращается в рассуждение.
Например, опера Оффенбаха "Сказки Гофмана" кончается гениально простыми строками:
On est grand par l'amour,
Et plus grand par les pleurs.
|
По-русски (отвлекаясь пока от игры форм) теоретически возможно передать ту же идею — однако выходит уж очень длинно:
Любовь ведет человека к величию —
но еще больше величия там, где она становится дорогой слез.
|
Чтобы сделать это поэзией, надо искать другой образ, средствами другого языка; это уже не перевод, а самостоятельное творчество, по мотивам оригинала. Не факт, что такой "перевод" естественно ляжет на музыку. А надо вписать — остается пустая формальность:
Мы высоки в любви,
Еще выше — от слез.
|
Моностих сродни живописи: он выхватывает из потока бытия эпизод, в остановленном мгновении рассказывает историю...
Изначально поэзия — всего лишь игра слов. Искусство делает ее осмысленной.
У всякого поэта свой язык. Безвестные поэты говорят на мертвых языках.
Поэзия лишена декоративности.
Рифмованные строчки в быту, надписи на вещах — мертвые кости, огрызки поэзии.
Все остальное находит место в интерьерах, публичных пространствах, в обыденной имитации.
Проза на полках смотрится внушительно и солидно.
А поэзия открывается не каждому, и только наедине.
Вероятно поэтому стихи — интимнейшее из искусств.
Двести лет обыватели кормят обывателей сплетнями об амурных похождениях Пушкина.
Это стало непреложной истиной, вошло в школьные учебники; несогласным на экзаменах снижают балл.
Однако стоит прислушаться к поэзии — и подобные измышлизмы поражают откровенной нелепостью.
Да, Пушкин играл в творчестве разные роли, — но именно играл, больше в угоду публике.
А сам с ранних лет питал необычное по тем временам трепетное уважение к семье.
Взять хотя бы сказку о царе Салтане; пожалуйста, предельно ясная позиция:
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
|
Прежде чем такое написать, надо очень крепко поразмышлять, не один год.
Это не литературная случайность, а зрелая мысль.
Много позже — "Евгений Онегин", с его потрясающей отповедью либертинам:
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
|
Выходит, юношеское убеждение осталось на всю жизнь.
А в конце этой жизни — унижения при дворе, которые поэт терпит только ради жены,
и пресловутая дуэль (совершенно немыслимая для старого развратника),
когда защищают не только честь женщины, но и чистоту идеи.
Умение замечать чужие ошибки не отменяет способности совершать свои.
Брюсов — великий поэт и блестящий теоретик поэзии. Признанный мэтр.
Однако и его увлекла струя всеобщего восхищения успехами науки,
и он совершенно некритически заимствует пошлое положение о познании как высшей цели человеческого бытия...
Из этой изначальной глупости — абсурд следствий.
Анализ пушкинского "Пророка" — полная чушь.
В угоду примитивно понятому "материализму" Брюсов противоречит сам себе, изменяет чутью художника.
Поэтические формы преподносятся как нечто буквальное, художественный образ подменен простым изображением.
В итоге нелепый вывод: эти стихи — всего лишь "факт истории", и ничего современному человеку не говорят.
Но стихи остались. Они будут читаться с трепетом и через сто лет после Брюсова.
И нет в них никакой мистики — а есть яркое выражение идейной позиции,
чувство великого призвания поэзии, ее святого права и священного долга.
Поэт — пророк подлинной разумности, он участвует в трудной работе человечества над построением истинно человеческого общества.
В этом настоящий материализм. И здесь Пушкин дает сто очков вперед всем поэтам XX века, и тому же Брюсову.
Сегодня, с вершины другой философии, можно заметить, что и Брюсов не во всем неправ.
Замените слово "познание" словом "рефлексия" (как отражение себя) — и наука окажется в одной упряжке с искусством.
Да, наука аналитична. Но метод искусства — отнюдь не "синтетический" (как полагал Брюсов), а наоборот:
искусство синкретично, оно логически предшествует анализу, позволяя схватить предмет в целом, прежде чем наука сможет приступить к его детализации (познанию). Одно немыслимо без другого, это уровни одной иерархии. Но и то, и другое — всего лишь рефлексия,
а подлинный синтез — только в практике, когда рефлексия становится принципом жизни, направляет деятельность.
Когда ученый или поэт — не ради творческих абстракций, а во имя общего дела.
Когда поэт начинает слишком много рассуждать о своем стиле — он не только утрачивает индивидуальность, но вообще уходит из поэзии. По молодости многие из великих примыкали к каким-то модным сектам — но вскоре покидали, осознавая несовместимость политической шумихи с искусством. Кто пытался отстаивать интересы партии — постепенно превращались в поэтический казус; время разжаловало их из поэтов всего лишь в отцы-основатели. Они хорошо устраиваются в жизни. Но не в искусстве.
Алексей Парщиков продал душу формалистическому дьяволу ради переезда в столицу, а потом и за бугор. Его стихи — на продажу; это дань модным увлечениям, антисоветской разнузданности. А жаль. Потому что талантом никак не обделен. И стоило прислушаться к себе, а не к голосу рынка, — поработать над стилем и поискать вокруг художественности (не противопоставлять себя другим поэтам, а учиться у них), — тогда мог бы вырасти поистине титанический дар.
Вот его Новогодние строчки 5:
|
А что такое море? — это свалка велосипедных рулей,
а земля из-под ног укатила,
море — свалка всех словарей, только твердь язык проглотила.
А что такое песок? — это одежда без пуговиц, это края
вероятности быть избранным из миллиардов,
сходных, как части пустыни.
Вот детям песок, пусть воздвигнут свои города-твердыни.
|
Налицо великолепные образы. Велосипедисты летят по земле — и не замечают края, и гибнут в море, и барашки на волнах — как рули тонущих велосипедов; все земные языки растворяются в языке волн, перепутавших обрывки земных словарей. То же о песке — всех уравнивающем пляжной одеждой (если не наготой); из этого праха миллиардов судеб детишки лепят куличи и строят эфемерные города.
Ну и что? Отметились, прокукарекали — и хоть не рассветай. Так, зарисовка скучающего туриста, у которого по жизни «все включено». И которому ради забавы захотелось блеснуть салонным остроумием. В компании таких же бездельников.
В искусстве — всякая образность закономерна, вытекает из темы, из идеи. Даже если речь о случайном экспромте, стихах в альбом. Такой целостности, осмысленности бытия у Парщикова нет. И быть не может. К сожалению. Сырое бы подсушить, недоделанное доделать... Тогда будет поэзия. Но уже поздно.
Секс-меньшинства пытаются примазаться к славе Шекспира, выводя из формы его сонетов нежные чувства к графу Саутгемптону. Глупость, конечно, поскольку поэзия никогда не вытекает из фактов биографии — ее истоки в движении литературного процесса и культуры в целом. Внешние поводы могут быть какими угодно — однако результат живет собственной жизнью, и у него другая биография.
Что Шекспир был величайшим плагиатором — общеизвестно. Вероятно, и его сонеты — своеобразная сводка достижений эпохи, художественный отчет о духе и состоянии поэтического искусства. Гениальность Шекспира в том, что из обширного материала он выхватил главное, существенное; его творчество вполне аналогично знаменитому трактату Панини — древнейшей лингвистической теории и эталону санскрита. Поэты ранга Шекспира или Пушкина точно так же создают новый язык — в котором, в общем-то ничего нового, — но направление развития задано на сотни лет вперед.
Однако если мы говорим о литературе — то и надо о ней, отодвигая сопутствующие обстоятельства на задний план. И вот здесь возникает живейшая параллель сонетного цикла Шекспира с жанром панегирика (мадх) в ранней арабской поэзии. По уровню разработки тем и общей стилистике, прежде всего приходит на ум ал-Мутанабби, с его доминантной темой сопоставления вассального служения — и служения любви. Высокий покровитель уподобляется возлюбленной, которая может или одарить милостями, или жестоко отвергнуть — но это не меняет и не умаляет чувства (не в смысле физической страсти, а как высокой художественной, и общечеловеческой идеи). Понятно, что половые вопросы за бортом. Когда арабские поэты говорят о возлюбленной в мужском роде — это вовсе не свидетельство особой ориентации, а всего лишь условность поэтического языка. Когда адресат послания мужчина — а речь об интимной близости, это не факт бытия, а разновидность тропа, где именно контраст сближаемых идей производит сильное художественное впечатление.
Разумеется, при этом вовсе не предполагается сколько-нибудь реального влияния арабской поэзии X века на английской литературу конца XVI века. Речь идет о фундаментальных законах развития искусства, которые приводят к сходным явлениям в очень разных исторических условиях. Тем не менее, возможно проследить отдаленное родство подытоженной Шекспиром традиции с поэзией средневекового Прованса, образный строй которой пронизывает европейскую поэзию последующих веков. Как и у арабов, обращение к любимой в мужском роде — художественная норма; точно так же, любовь к государю и любовь к богу приобретают ярко эротическую окраску — безотносительно к тому, что на самом деле чувствует поэт.
Глупо сравнивать несравненное с несравненным. Одна прелесть ничем не хуже другой. И тем не менее, иерархии выстраиваются по уровням, и в каждом обращении одно оказывается над другим.
С точки зрения непоэта, — и не очень глубокого знатока, — русская поэзия XIX–XX века заметно богаче, глубже, разнообразнее, универсальнее французской поэзии того же периода. В частности, русский романтизм как-то стремительнее; поэзия "золотого века" — заметно опережает развитие французов; русский символизм — мощнее, обширнее; формалистические течения — ярче французских аналогов. То же самое можно сказать и о поэзии второй половины XX века; французы к этому времени почти выдохлись, ушли в другие искусства. Всплеск самобытной сетевой поэзии на грани XXI века — это США и Россия, а Францию обошло стороной...
Может быть, только иллюзия, — недостаточное знакомство с бытом и историей. Но есть и гипотезы. Обращает на себя внимание простой факт: русские поэты последних трех веков прекрасно осведомлены о происходящем в европейской (а потом и американской) поэзии. Практически все русские поэты читают (а иногда и пишут) стихи на других языках — могут сопоставлять тенденции разных стран. А много ли в литературе французов, способных проникнуться русским звуком? Увлечение Востоком — в России из первых рук: это ее границы. Пожалуй, только арабская поэзия могла бы больше влиять на французов, чем на русских, — колониальное прошлое... Но и этого, похоже, не произошло.
Вот и получается, что русская поэзия как бы вбирает в себя все накопленное в мировой литературе — и в искусстве. Всемирный синтез. Только американцы могли бы похвастаться чем-то вроде. Мигранты приносят свое. Но есть разница: в Америку едут тела — в Россию — вливается дух. Тела больше проникаются местным духом, чем привносят своего. А дух без тела — одухотворяет все наличные тела. Переселяясь в развитые страны, поэты принимают их правила. Переселение иностранной поэзии в Россию — меняет ее дух, создает новую художественность.
В экономически развитых странах снижение интереса к поэзии — обычное явление. На пьедестал сначала взбирается проза; потом ее вытесняют всяческие веселые картинки. Стихи все еще пишут — но лишь в качестве лирического отступления, паузы в потоке серьезных дел. Нет поэтов — есть литераторы. Когда-то поэзия воспринималась как служение, как миссия; сейчас это забава, игра, рисовка... Только любители, у которых ничего солидного за душой, могут воспринимать стихотворчество всерьез.
Не может быть, чтобы столь регулярное было случайностью. Изменяется экономика — изменяется способ общественного бытия. Поэзия — внутри; проза — снаружи. Значит, внутреннее движение духа по каким-то причинам становится внешним — и потому требует иных форм. Нечто похожее происходило с животными: поначалу все сводится к физиологии — потом организм рождается беспомощным и должен учиться жить среди сородичей; физиология уступает место психике — которая постепенно подчиняет себе органические тела. Только на этой основе возможен качественный скачок — выход за рамки природности, подчинение и физиологии, и психологии разуму.
Во внешнем поведении — животные уже не самостоятельные организмы, а органы животного сообщества. Вид теперь представлен не столько строением тел, сколько способом их взаимодействия. Возникает организм более высокого уровня — но все еще организм.
Возможно, вывод внутренней речи во внешнюю — одно из проявлений утраты единичным человеком собственно общественного статуса — когда субъектом деятельности становится коллектив. Для этого субъекта публичная речь оказывается внутренней, а проза — формой поэзии. Значит, мы живем в эпоху перехода к новой, высшей разумности — в которой само различие внутреннего и внешнего будет снято, подобно тому, как физиология и психология для духа — лишь уровни животности.
|